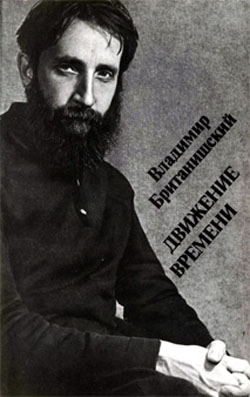Движение времени. М.1985
“История есть греческое слово…”
* * *
История есть греческое слово:
деяния или дела людей —
благие, злые. Праведник, злодей —
дождутся в будущем суда людского.
А знание давнопрошедших дней
поможет нам жить, и думать снова,
как жить, как действовать, пути какого
держаться и каких поводырей.
Так предварял Татищев свой рассказ
истории российской. И у нас
просил прощенья, если в чем неточен.
И ты, читатель, мне в упрек не ставь
мои погрешности. Прочти, поправь.
Брани за упущенья, но не очень.
“Сверкают молнии, грохочут громы…”
* * *
Сверкают молнии, грохочут громы,
обугленных дубов чернеют гробы,
гром грянет — содрогнется древний лес,
и в грозном мире электромагнитном,
где много лет спустя погибнет Рихман,
свирепствует Перун-Юпитер-Зевс.
Еще в необжитой вселенной — ужас.
Недюжинных здесь нужно сил, и мужеств,
и хитрости мужицкой, и ума.
Но, может быть, даруют боги милость,
чтоб скот не пал, чтоб жито уродилось,
чтоб ночь прошла, чтоб кончилась зима.
Еще герои лик звериный кажут:
днем скачут на коне, воюют, княжат,
а ночью обращаются в волков
(как тот Всеслав, который волком рыскал
по всем степям бескрайним украинским
до самых черноморских берегов).
Внизу, в дочеловеческих глубинах,
среди червей, корней и нор змеиных,
замшелое ветшает лешачьё,
но бог-кузнец Гефайстос-Ильмаринен
(Вулканом именуемый у римлян)
уже кует, покуда горячо,
железо. Он кует мотыги, плуги,
серпы и косы, копья и кольчуги,
подковы, стремена и удила.
Он рыжую руду в железо варит,
он кочергою в горне кочегарит,
калит и докрасна и добела.
Кончается пора Царя Гороха,
и в греки из варяг ведет дорога,
и города воздвигнуты вдоль рек,
и отступают темные стихии
за каменные стены городские
в деревни и в урочища лесные,
чтоб долго-долго доживать свой век.
“Багульник, ельник, изволоки, взгорья…”
* * *
Багульник, ельник, изволоки, взгорья…
Грибная, волчья да медвежья дебрь.
И вдруг — виденья Средиземноморья:
маслина, кипарис, ливанский кедр.
В глухих лесах, холодных, хмурых, хищных,
метель метет и долго ждать весны,
но ветви пальм, плоды смоковниц пышных
художникам и книжникам видны.
Из северных, из необжитых ширей,
из узких келий очи их глядят
в волшебную страну, в блаженный ирей,
куда под осень птицы улетят.
И словно отсветом тех светлых высей,
тех райских стран, той дивной красоты
сияют и Рублев, и Дионисий,
и Нестерова светлые холсты.
Виденье отроку Варфоломею –
бессолнечная северная Русь,
но что-то вдруг напомнит Иудею
или о ней несбыточную грусть.
ЦЕРКОВЬ В ДУБРОВИЦАХ
ЦЕРКОВЬ В ДУБРОВИЦАХ
Восемнадцатый век
возникает, как церковь в Дубровицах:
ни с того ни с сего посреди подмосковных дубрав.
Ты застыл, изумленный.
Теряешься взглядом в подробностях.
Обретаешь крыла и взлетаешь, равнину поправ.
Стены сплошь изукрашены пышно-причудливой
путаницей
то фигур, то цветов и плодов в их сплетенье густом,
а вершина увенчана и не шатром и не луковицей:
золоченой железной короной с железным крестом.
Что за мастер, чьей церковью
здешняя местность украсилась?
Крепостной ли строитель, свободный ли был человек?
Русский, немец ли он, итальянец? Поляк ли, украинец?
Я все книги смотрел, и нигде ничего о нем нет.
Но откуда б он ни был,
а храм его — весь белокаменный,
как Владимир и Суздаль, как храмы и домы в Москве.
Говорят, он семь лет воздвигал его, но не веками ли
здесь резьбой белокаменной зодчие тешились все?
А цветов и плодов не бывает таких в нашей местности:
виноградом и пальмой чарует нас дивная вязь,
виноградом и пальмой —
мечтой древнерусской словесности,
что на севере диком о пальме твердила, томясь.
Вот стоит эта церковь, прельщая нездешнею прелестью,
и глядит свысока на леса и Десну и Пахру.
Вся она — беззаконна. Должна была выглядеть ересью.
Но ее освятили: понравилась, видно, Петру.
А уж вкусу хозяина, князя Бориса Голицына,
угодила весьма. Блажь? Причуда? А может, символ?
Как московский боярин
в костюме мальтийского рыцаря,
как голландский корабль,
что с воронежской верфи сошел.
И Голицын — причудлив. Правитель Казани и Астрахани,
но любитель латыни и польской музыки знаток.
Винопийца, забавник,
но деятель нескольких царствований.
Хлебосол. И мздоимец. Добродушен. Гневлив и жесток.
То он судит-казнит, то ленивеет праздный в домашности.
Лает слуг и приказных. Любезен с австрийским послом.
Вольнодумец, гуляка,
но жизнь свою кончит в монашестве.
Он — Петра воспитал. О Петре еще рано. Потом.
А пока что — Голицын и эта вот церковь в Дубровицах.
Там, где быть Петербургу,— болотистые острова.
Да и здесь, на Москве, еще старое с новым поборется.
Еще ропщут стрельцы. Еще старая вера жива.
Скоро новое летосчисление будет. История
замерла на мгновение на повороте крутом.
Выходя из себя, вырастая в Россию, Московия
ищет выхода к морю. И к миру, который кругом.
Петр встает у руля. Закачает людей, как на палубе.
Новый город воздвигнется. Новый упрочится стиль.
Будут статуи, статуи Зимнего. И в Петропавловке
ангел будет венчать золоченый сверкающий шпиль.
Там. А здесь, под Москвой, не сознавший себя
и не названный,
но мучительно рвущийся быть и предстать во плоти,
так, с избытком таким, век вдруг выразился
восемнадцатый,
что ни разу потом столь препышно не мог расцвести.
С перехлестом (как Петр!). Чересчур. Но в надрывной
чрезмерности —
все, что было, что будет: и разинщина, и раскол,
Петербург и Полтавская битва и подвиг предерзостный
паренька, что с обозом в Москву за наукой ушел.
…Постоим возле церкви-пророчицы,
церкви-предвестницы,
церкви-знаменья: знаменья века, который грядет.
Зодчий выверил точно. Четыре пологие лестницы
чуть замедленным ритмом
готовят стремительный взлет
«ПРИВЕТ ИЗ АМСТЕРДАМА!»
«ПРИВЕТ ИЗ АМСТЕРДАМА!»
В зоосаду детей верхом на пони
снимают (пони — смирный, не брыкливый).
В Крыму снимались некогда на фоне
пейзажа: размалеванный, крикливый
фанерный щит (наверное, видал ты?) —
просунешь голову в его отверстье,
фотограф щелкнет, и — «Привет из Ялты!»
(или еще какого-нибудь места).
Снимайся хоть в матросской бескозырке,
хоть в капитанской - о, восторг! - фуражке…
Приятель мой сострил: «Привет из дырки!»
(Он снялся без пейзажа в той шарашке,
без шапки и…без скидки: рупь с полтиной,
за что назвал фотографа скотиной).
Я мог бы и забыть об антураже
крымских фотографов. Но в Эрмитаже
был как-то раз. В Петровской галерее
или там рядом, по соседству с нею,
ну, словом, как заходишь, в ближних залах
Петр, в рыцарских и царских причиндалах,
мальчишески веселый, фатоватый,
башку просунул в рыцарские латы
и высунулся, и восторг во взоре,
а фоном служит Северное море,
и парусный корабль плывет — ну, прямо
картиночка: «Привет из Амстердама!»
САНКТ ПИТЕРБУРХ (РИСУНКИ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВА. 1710-е ГОДЫ)
САНКТ ПИТЕРБУРХ (РИСУНКИ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВА. 1710-е ГОДЫ)
Санкт Питербурх. Вот церковь. Вот трактир.
Вот две коровы на переднем плане…
Рисунок — контурный, почти пунктир,
перо чуть-чуть дрожит, как будто мир
чуть зыблется, всплывая перед нами.
Санкт Питербурх. В солдатской слободе.
Домишки. Три коровы возле церкви.
Видны верхушки мачт, но спуск к воде
не виден.
Вот подворья, форты, верфи.
Вот барка.
Вот корявая сосна:
Петр повелел оставить, чтобы знали,
что здесь был лес. Она торчит одна
на пустыре — как память о начале,
как памятник.
Вот сломанный баркас.
Вот пристань, мост. Мальчишки рыбу удят.
Вот будочник (и в профиль, и анфас).
Вот все, что есть. А то, что позже будет,
другие пусть изобразят в свой час.
Вот мельница (здесь в будущем дворец
построят): мельница над речкой Ерик
(теперь — Фонтанка).
Та же речка. Берег.
Хибарки к речке клонятся — конец
какой-нибудь деревни захолустной.
Еще рисунок. Тщательный, искусный
(перо и кисть). На Зверовом дворе.
Зверинец. Здание мы видим сзади.
Двор: щебень, доски, тачка (но без клади)
и клен (без листьев: видно, в ноябре).
Словом, задворки в царствующем граде.
Наброски то солдат, то горожан.
Князь. Пономарь. Амбары, бочки, баржи…
Он всю действительность изображал
такой, как есть. Наброски, но не шаржи.
Вот, скажем, мельница. Две-три свиньи
в грязи резвятся на переднем плане….
Но ведь и в жизни разные есть грани,
и не художника, а жизнь вини,
коль что не так.
Петр это понимал
(ему рисунки преподнес художник,
и то, что издержал на матерьял
для дел своих «пергаменных чертежных»,
казной оплачено)…
Года, века
пройдут. В гранит оденется река.
В столице будет пышно и парадно.
Но это будет позже. А пока —
вот две коровы. Это тоже правда.
СЛОН
СЛОН
Каких только не видели персон
в Москве! Но не о них я речь веду.
В тыща семьсот двенадцатом году
в Москву из Азии явился — слон.
Послом официально был не он,
а некий перс, но, правду говоря,
в тот день (а было третье октября)
не к персу шли, а к зверю на поклон.
Встречали конно (добрых два полка),
вся знать (каретами шестериком),
и на шесть верст народ стоял кругом:
«народным морем» разлилась толпа,
как пишет очевидец.
Вез посол
на двух больших телегах льва и львицу,
вез попугая и еще жар-птицу
невиданную. А за ними шел
тот, кто сановнее послов и знати,
хоть не в карете — пеший, не в халате
и не в мундире пышном — бос и гол.
Ноги — как бревна. Уши у слона —
как две печных заслонки. Бычий хвост.
А хобот, как рукав из полотна,
аж до земли свисает. Что там Босх
с чудовищными бестиями ада!
Полна чудес природа, и не надо
придумывать.
Вот хоботом колосс,
яко рукою, принимает брашно.
Вот он, шутя, толпу теснит — всем страшно
и все бегут.
А всадник, что на нем,
коль снизу смотришь, зрится воробьем.
Слона потом на барке в Петербург
везли, по рекам, по большим и малым,
по Ладоге, но довезли зер гут,
что и Петра Великого «Журналом»,
страница триста девяносто пять,
отражено. (Петр мог припоминать
ученого слона, что в Амстердаме
держал, как знаменщик, большое знамя,
трубил турецкий боевой сигнал
и даже из мушкета сам стрелял.)
Петр встретился с персидским дипломатом,
слон — водворен был в городе. С тех пор
в Санкт-Петербурге был Слоновый двор.
Но путешественник в семьсот двадцатом,
придя в Слоновый двор, уж не слона там,
а выделанную слоновью шкуру
узрел. Таков немилосердный фатум.
Всем изучавшим русскую культуру
петровского периода тот слон
известен хорошо (смотри гравюру
Пикарта: там и слон изображен,
и встреча — та, московская,— видна там).
Загадка вот в чем: в восемьсот восьмом
Крылов («По улицам слона водили…»)
писал об этом, самом первом, или
каком-нибудь уже совсем другом?
Надо бы выяснить. Пока что мне
насчет Крылова ясно не вполне.
А в тыща восемьсот восьмидесятом
(прошу прощенья за пристрастье к датам)
рассказ о достопамятном слоне
публиковался в «Русской старине».
“Петербургский горожанин…”
* * *
Петербургский горожанин
покупал на рынке клюкву.
Пораженный парижанин
описал продажу-куплю
этих ярко-красных ягод,
им не виданных доселе,
и румяных россиянок
простодушное веселье.
А мороз в России — ужас,
лес дремучий, звери — люты…
Но в Париже петербуржец
разве мог бы жить — без клюквы!
ГРАВЮРА ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ
ГРАВЮРА ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ
Щеки раздувающий божок
дует в раковину или в рог.
Он статист в театре аллегорий,
праздник ли дворцовый, Новый год,
в порт ли вводят пленный шведский флот
или это триумфальный вход
русских войск в Москву после викторий.
Он второстепенный персонаж,
как служанка, нянька, паж и страж,
как мальчишка, писающий сбоку,
рядом с винной бочкой, в стороне,
на большом фламандском полотне
(в Эрмитаже, в этой толкотне,
всех их и не разглядишь, ей-богу!).
Движется история, а он
дует, дует, дует… Он лишь фон
для фигур, для действий, для сюжета.
Щеки раздувающий божок,
ты скромнее прочих был, дружок,
никакого моря не зажег —
и спасибо за одно уж это!
ЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ
ЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ
…водное естество, взаимному
всех стран сообществу послужити могущее…
Феофан Прокопович
Мы плыли хмурым Ладожским каналом
от Шлиссельбурга (то бишь Петрокрепость)
до Новой Ладоги. Была окрестность
тосклива. Пароход шел самым малым
по этой узкой и унылой щели.
И в утреннем тумане еле-еле
кусты просвечивали слева-справа,
тускнело деревцо (ольха? осина?)
и вновь тянулась плоская низина,
та, по которой шел канал («канава»,
как тут перекрестить его успели).
Две насыпи — две серых параллели —
кой-где пестрели: желтовато, ржаво.
Да кроны ветел будто вверх корнями
торчали — метловато, узловато…
А виделись мне персы и армяне,
купцы, здесь проплывавшие когда-то,
с цветистыми шелками и коврами
из тех восточных царств, что за горами.
Ведь Петербург, хотя и был Европой,
шпалеры Фландрии приобретая,
не брезговал ковровою работой
Востока и фарфором из Китая;
привыкший к сладостям и к чаепитью,
шербетом лакомился и урюком…
А этой тонкой водяною нитью
Восток и Запад Петр связал друг с другом,
Неву сближая с Волгою-рекою,
с Казанью, Астраханью, Шемахою…
Мы плыли скучным Ладожским каналом,
и утро было пасмурным, унылым.
Но где-то за кавказским перевалом,
за прикаспийской степью, за Дарьялом,
то яхонтом, то самоцветным лалом
Восток сиял, как сказочным светилом.
А в невском устье, низменном и влажном,
болотистом, торфяном, мглистом, дымном,
светился Запад залом эрмитажным
в многоколонном драгоценном Зимнем.
А в Старой Ладоге, куда мы плыли
(мы плыли к Новой, к волховскому устью,
а там — пешком: уже однажды были),
сияли фрески яркой Древней Русью,
воспряв из-под известки, из-под пыли.
И сквозь туман, стоявший на болоте,
сквозь дождевое сеево сплошное
мерещилось сообщество людское,
как в речи Прокоповича о флоте.
ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
1. Жизнь Феофана
Был роду Феофан купецкого,
но, без отца оставшись смалу,
наверно, вдоволь он победствовал,
его не сразу обласкала
фортуна.
Да, но и постранствовал
немало: Львов, а дальше Краков,
Рим, с перевала Сен-Готардского —
в Гельвецию. В краях и градах
во многих был. Как многоопытный
муж, о котором повествует
Гомер.
Религий разных догматы
знал. Свято место не пустует:
так в древнем Киеве язычество
сменилось верою Христовой.
Но если истина не ищется,
Что толку в вере, хоть и новой!
Что толку в чести, власти, золоте,
коими сердце жадных живо!
(Уж больше толку даже в солоде:
без солода — какое ж пиво!)
Он панагиею с алмазами
себя украсить не хлопочет:
величество людское — в разуме,
а разум явится где хочет.
Где хочет: во дворце и в хижине
и в киевском купецком доме.
И лишь в пустыне, страхом выжженной,
не явится. Где хочет, кроме.
Кроме тех мест, где нужно кланяться
вельможным и деньге-злодейке,
где знатные невежды чванятся
и где любой кабацкий пьяница
тебя продаст за три копейки.
Так нечего лениться-нежиться,
и время нынче не такое,
а надо корчевать невежество,
путь просвещению готовя.
А надо насаждать училища —
пусть древо знанья корень пустит.
Не знатность — знанье будет силища.
Злость дураков язык прикусит.
Библиотека, Академия
и школа для сирот и бедных,
и Ломоносову радение,
рожденному в народных недрах:
все это — дело Феофаново
(начало, замысел, основа)…
А каково все сделать заново,
чтоб не казалось — было ново?
2. Дом Феофана
Дом Прокоповича — на Карповке,
возле Аптекарского сада.
С тех пор, как в рай садово-парковый
ввела философов Эллада,
философы — в родстве с ботаникой,
с садово-парковым искусством.
Но остров-то — необитаемый!
Да и на грунте петербургском,
в болотистой, лесистой местности
взрастет ли сад греко-латинский —
сад любомудрия, словесности,
поэзии — на этой низкой
земле?
На острове Аптекарском
(пока — по-старому — Еловом)
уже искусством архитекторским
воздвигнут дом.
И в доме новом —
новые люди, те, с которыми
хозяин щедрый и радушный
до ночи занят разговорами
(они ему — как хлеб насущный):
какою быть должна поэзия,
о вредных воздухах больных,
и верно ль мнение Картезия,
что нет, мол, чувствий у животных;
о Левенгуке, о материи,
Полюстровских и прочих водах…
Ну, словом, не теряли времени
(ведь это-то и значит отдых!) .
А время что кому пророчило,
иному — плаха или ссылка.
Но гости в доме Прокоповича
беседуют и спорят пылко,
и за полночь окошки светятся,
то шутит, этот правду режет…
И, Просвещения предвестница,
заря над Петербургом брезжит.
3. Европа и Россия
Окнами в Европу были— люди.
Был и Феофан таким окном.
Разум, как в фарфоровом сосуде,
под его большим светится лбом.
В хлебосольном доме петербургском
гости за полночь и пир горой,
Угощались ренским и бургинским,
устрицами, раками, икрой…
— Вон еше того сига отведай!..
— И еще вот этого вина!..
Угощались мудрою беседой,
как в сократовские времена.
Русским, иноземцам, иноверцам —
всем тут рады, вяск уважен тут.
На латинском, на древнееврейском,
итальянском, польском здесь поймут.
С езуитом и старообрядцем
Феофан беседовать готов
(ведь Еразм был вовсе святотатцем,
а толков, куда как был толков!).
Кантемир, Татищев, Тредьяковский
(с кем и поругается — простит) …
И казак, донской или днепровский,
под Москвой в селе его гостит.
Если Петербург — окно в Европу,
то село Владыкино — окно
в Русь: иначе ведь не будет проку
от Европы, то – то и оно.
Псковский и Великоновогородский
архипастырь, но простых простей…
И, наверно, клюквой и морошкой
тоже потчевал своих гостей!
4. Смерть Феофана
Его глава была как Вавилон:
Платон и Аристотель, Цицерон
и Августин с еретиком Еразмом —
из разных в ней сошлись времен , сторон
как на собор. И был собором он,
его соборный, всеобъятный разум.
Пред тем как вступит смерть в свои права,
философ должен произнесть слова.
Что хочешь ты поведать, Прокопович?
И, пальцем постучав по тверди лба,
воскликнул Феофан: «Глава, глава!
Упившись разумом, где ся приклонишь?»
ТАТИЩЕВ
ТАТИЩЕВ
Четырехпудовый бивень мамонта
преподнес Татищев государю,
зверя мамонта, зело громадного,
соразмерного с сибирской далью.
Ведавший казенными заводами,
рудами, какие где отыщут,
над Сибирью — воздухами, водами
и зверями — мудрствовал Татищев.
Он, любителю всего гигантского,
куриоз Петру привез великий.
А себе, из Дрездена и Данцига,
привозил лишь книги, книги, книги.
Геродота покупал и Тацита,
«Жизнь Сократа» и трактат Коперника
(чье ученье церковью отвергнуто),
философию, фортификацию…
Дом себе поставив над плотиною,
основатель Екатеринбурга
книги, книги — страсть свою единую —
здесь хранил (он не любил сумбура).
Вечно отрываемый от чтения,
город озирал хозяйским глазом…
все имел он: честь, чины, имение,
но всего превыше ставил — разум.
ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА ЯКОВА БРЮСА, МОСКОВСКОГО ФАУСТА
ЖИЗНЬ И ЛЕГЕНДА ЯКОВА БРЮСА, МОСКОВСКОГО ФАУСТА
1. Легенда
Виллим Брюс, иноземец, из Шкоцкой земли,
королевского роду был якобы.
В царском войске служил, сыновья подросли —
отдал в службу Романа и Якова.
Уж как старший, Роман, был лихой генерал,
беспрестанно сражался он с ворогом.
А как город построили, царь ему дал
Петербургом командовать городом.
А у младшего, Якова, ум был хитрей,
предался он затеям злокозненным:
черный порох варил для пушкарских затей
и упился он зельем тем огненным.
Серный дух возлюбил, и лазуревый огнь
для него стал единственным светочем.
Заглядевшись в то пламя, задумывал он,
как сравняется с богом всеведущим.
Был он знатен, богат, не считал он рублей,
а считал только в сотнях и тысячах;
столько нет на Москве православных церквей,
сколько книг он купил еретических.
А друзья его были графья да князья,
царь с царицей, полковники царские,
и решил он, что бог уж ему не судья,
что не будет ни смерти, ни старости.
Что не бог, а наука — владыка всему,
что мудрец, обладающий истиной,
сам есть бог, и что нет, мол, предела уму,
так он думал, безумец неистовый.
То он травы сушил и отвары варил
и с лекаркой-знахаркой беседовал.
То по книгам смотрел и у дьявольских сил
их секретные знанья выведывал.
И дознался он тайны, как быть молодым,
девять лет ему было добавлено.
Тут и начал блудить он, и так он блудил,
Будто сам он был выблядком дьявола.
А блудил он не с девкой своей крепостной,
не с какой-нибудь бабой распутною,
не с зеленоволосой русалкой лесной,
а с искусно сработанной куклою.
И была эта кукла во всем хороша,
не хватало ей только немногого:
не имела души она, ибо душа –
это дело не Брюсово: Богово.
И хоть Брюсу та кукла его удалась,
Он не тешился ею, лишь мучался:
все не мог примириться, что Богова власть
выше Брюсовой власти-могущества.
И разбил он ту куклу и проклял судьбу,
Пожалел он, что тайны разгадывал.
Стал он в башне сидеть и ночами в трубу
на небесные звезды поглядывал.
И светился огонь и пугал горожан,
потому что был делом нечистого.
И случился в той башне великий пожар.
Так и умер, как жил он: неистово.
Пушкари понаехали в день похорон.
Пушки гукали, пыхали порохом.
И в том дыме, в том облаке пороховом
Брюс явился вдруг дьявольским мороком.
И пропал. И могилу его не найдут.
Так пропал вдруг со свету он с белого.
Эти молвят, мол, там, а другие, мол, тут,
а ни там и не тут его не было.
Но коль голод случится, чума и мор,
это все нагадал он заранее:
календарь напечатал — доныне с тех пор
все сбывались его предсказания.
Потому что осталось две тысячи книг
тарабарских, халдейских, египетских,
и грядущее наше записано в них,
в этих книгах и в Брюсовых выписках.
И с тех пор на Руси не живут — только ждут,
ждут чего-то, гадают, надеются.
И покуда те книги дотла не сожгут,
колдовство-ведовство не рассеется.
2. Жизнь
И Брюс, и Боур, и Репнин…
Пушкин
Он даже от Москвы жил в сорока верстах,
от Петербурга же — считай что в семистах,
за тридевять земель от всех интриг природных.
Фельдмаршал отставной, затворник и монах,
забыл о титулах, о рангах и чинах,
о всех своих врагах и о друзьях притворных.
Что Миних делает? что думает барон?
кто в силе при дворе, а кто понес урон?
Не все ль ему рано! Лишь справиться б
с подагрой.
В усадьбу удалялись, как древле Цицерон,
он бережет не впрок, а лишь для похорон
свой жезл фельдмаршальский и свой мундир
парадный.
И только к знанию в ней не иссякла страсть.
Он многие познал, но это только часть.
Еше полным-полна священная Бутылка.
Пьешь из нее всю жизнь, но, упиваясь всласть,
вновь жаждешь к мудрости источнику припасть,
привычно, как питок, и, как любовник, пылко.
Он вспомнил истину весельчака Рабле
о том, что мудрые всегда навеселе,
и Гиппократово учение о смехе.
Ну что ж, единожды живем мы на земле.
Мы жили — весело… И всплыли, как во мгле,
потешный полк Петра и Марсовы потехи,
победы и пиры, и как из дома в дом
Апраксин, Меньшиков и сам он шли с Петром,
переодетые простыми мужиками:
царица родила, был праздник — все вверх дном,
князь Ромодановский шутейным был царем,
шутейный патриарх шел с ними, шутниками.
А ныне пост настал — не слышно шутовства.
Угрюмый Петербург, угрюмая Москва,
притих Рапирный зал на Сухаревой башне…
Да и за ним самим угрюмая молва
полезет, и видят в нем аж Симона-волхва.
Конечно, не сожгут, но временами страшно.
Дни удлинились: март… Всю зиму взаперти…
Придет Феофан… Хоть душу отвести:
что в Академии, что нового открыто
на небе, на земле, морские ли пути…
И надо бы тот вирш затейливый найти,
что спел про Ньютона тот англинский пиита.
А он? А про него напишут ли? Навряд.
Татищев — нынешний наш Тацит, говорят.
Татищев — наш Страбон и нынешней наш Плиний
и Екатеринбург построил, новый град.
Дай Бог Татищеву! А он уж староват
служить конюшему курляндской герцогини!
Философ истинный есть еже помнит смерть.
Пусть нам попы твердят, что мы лишь прах
и персть,
смеющийся Рабле смеется и в могиле.
От смерти не уйти — нет в медицине средств.
Но если на Руси наука будет цвесть
и будет ум в чести, то, стало быть, мы были!
ПАМЯТНИК
ПАМЯТНИК
Осталось только Фальконе
ваять фигуру на коне.
А лучшее ей было место —
просторный и пустой квадрат:
церковь Исакия, Сенат,
река, стена Адмиралтейства.
Сам не дурак и друг Дидро,
француз сообразил хитро:
все варианты перебравши,
он царственного седока
одел в рубаху бурлака,
по Волге тянущего баржи.
Простолюдин, сын столяра,
он, впрочем, увенчал Петра
торжественным венцом лавровым,
но намекнул (ведь сам — плебей):
мужик — потей, а царь — владей,
но держится-то все — народом.
Он — та сутулая скала,
которая согнула спину
и деятеля на вершину
его деяний вознесла.
Он — та могучая спина,
что выдержит любую тяжесть,
всю, что легла, и всю, что ляжет,
всех царствующих, все, сполна.
Держава — видел Фальконе —
на той же держится спине,
что царь и конь и самый камень
(его из Лахтинских болот
народ до берега волок
чуть ли не голыми руками;
и доволок, и на плоту
громаду каменную ту
гнал в Петербург, втащил на площадь
и взгромоздил царя и лошадь
на высоту,
а сам, в поту,
стоял, на дело рук своих
с растерянной улыбкой глядя
и об обещанной награде
забыв,
но бремя с плеч свалив,
стоял — Самсон или Сизиф?).
Мужик — основа. Пышный град,
полночных стран красу и диво,
не он ли строил (рад не рад),
натужно, трудно, терпеливо?
Не он ли (хоть работу клял)
возил песок и глину мял
и обжигал кирпич для строек,
и ставил домы, и вставлял
в них окна, дабы свет сиял?
Его ваятель не ваял,
и не писал о нем историк.
Иные времена придут,
поймут: египетский был труд
и стоил многих тысяч жизней…
Воздвигся Город над. рекой.
Вознесся Всадник. Царь и конь
на каменной спине мужицкой.
“Царство — одно, но России-то — две…”
* * *
Царство — одно, но России-то — две:
Разин на Волге и Петр на Неве.
Разин не умер, как Петр родился.
В царской деснице — Россия не вся.
Слава те господи, столько земли —
есть, куда спрятаться, чтоб не нашли.
В дальних лесах, у хрустальных озер,
там, куда царь свою власть не простер.
Или остаться, зубами скрипеть,
но не поддаться, а перетерпеть.
Перетерпеть, переждать до поры…
Вечны крестьяне, не вечны Петры.
“Хлебать ли бессолые…”
* * *
К.В.Чистову
Хлебать ли бессолые
щи без убоинки?
Бежать ли в раскольники
или в разбойники?
На земли заволжские
и зауральские…
Живут там по-божески
или… по-разински!
Бежать от помещика
и от приказчика
туда, где не сыщут вовеки
пропавшего.
От барщины барской,
от царской рекрутчины…
Там светлые воды
за темными кручами…
Там светлые годы,
как в старое времечко…
Там сказочный век,
а не тот, что теперича.
ГЕОМЕТРИЯ
ГЕОМЕТРИЯ
Лес, львом ярившийся вокруг,
как в клетку втиснут в Летний сад.
Но сучья, как обрубки рук
Волынского, кричмя кричат.
Кричит отрезанное прочь.
Уродуемое кричит.
Прокрустизованная плоть
материи - кровоточит.
А регулярность перспектив
крушит деревья и кусты,
страшна, как регулярный стих,
стучащий молотом в виски.
Куб. Параллелепипед. Куб.
Прямая. Перпендикуляр…
Так воцарялся Петербург.
Так он пространство покорял.
ГУЛ ВРЕМЕНИ (ОДЫ ЛОМОНОСОВА)
ГУЛ ВРЕМЕНИ (ОДЫ ЛОМОНОСОВА)
Гул времени слышнее слов.
Вместились в звук элементарный
стук строящихся городов
и топот движущихся армий.
Т, п, д, б — как топоры
стучат: корабль спускают с верфи.
А в грозных гласных о, у, ы —
и гнев, и страх, и ужас смерти.
А в повторяющемся а
без всяких слов слышны прекрасно
и глубина, и вышина,
и необъятное пространство.
Так строит оду тот помор,
так свой осмысливает опыт.
Не стих звучит — стучит топор.
Не ямб скандируется — топот.
ВОРОТА
ВОРОТА
Средь декораторов российского барокко
и Ломоносов был. Он сочинил ворота:
преддверье празднества, которого проект
иллюминацию включал и фейерверк.
Эпоха, пушечным погромыхавши эхом,
к пиротехническим питала страсть потехам.
Хоть ныне порохом владел не Марс, а Мир,
трудились пушкари, готовя пышный пир.
Профессор химии, заметим, не впервые
программу обмышлял подобной феерии.
Представим мысленно, что он имел в виду
представить истинно, в натуре, наяву.
(Конечно, «явь» была сугубо иллюзорной:
во-первых, он поэт, а во-вторых, придворный,
а в-третьих, требует условностей театр
и век навязывает свой репертуар.)
Как бы то ни было, поэту было мило
писать о «тишине возлюбленного мира»
и оду воздвигать во славу мирных дней
из многих статуй, ваз, картин, махин, огней.
Мы остановимся, однако ж, на воротах.
Они, как Петербург, стоящий на болотах,
реальность низкую театром заменив,
антикизированный оформляли миф.
(Один утраченный плафон Валериани
чуть-чуть похож на них, по текстам описаний.)
Ворота — из картин. Они отворены
в Россию мирную, в Россию без войны,
в цветущие сады «Российского покоя».
На тех картинах двух представлено такое:
Направо — дерево, и пышными плодами
оно соседствует с пшеничными полями.
Четыре Гениуса: двое жнут хлеба,
а двое рвут плоды, в корзину их кладя.
Налево — тихая морская гладь, по коей
морское божество несут морские кони,
зефиры кроткие распростирают флаг…
Ворота в сад ведут. А сад украшен так,
как настоящий сад: с партерами, с фонтаном.
Затем — фитильный щит. Рисунок крупным планом
по ходу празднества зажженный, вспыхнет вдруг -
и, в окружении художеств и наук,
рог изобилия держащая Россия
предстанет зрителям. Огни горят. Витые
ракеты вверх летят, и вьется виноград,
и грозди полные и зрелые висят,
обвив ветвящегося илима деревья
широковерхие. И виден в отдаленье
Храм Мира на горе, там, далеко вдали,
куда, ведя наш взгляд, ворота нас вели.
Проект сопровожден и стихотворным текстом.
Согласно правилам (увы, довольно тесным!),
текст должен был включать страницу или две
восторгов и похвал во славу е. и. в.
Коль бросить взгляд с высот
двухсоттридцатилетних,
Елизавете льстит коллежский сей советник,
ей, что и чин дала и даже помогла
в насущных хлопотах о фабрике стекла.
И все же подождем с оценкой торопиться.
Быть может, разглядим в придворном — утописта.
Он, истине служа, эпохе платит дань,
но мыслью устремлен в немыслимую даль.
НА БЮСТ ЛОМОНОСОВА И ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЫ
НА БЮСТ ЛОМОНОСОВА И ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЫ
Пройдись по городу - История права
и каждому свое воздаст в конечном счете:
от Ломоносова - одна лишь голова,
Екатерина же - лишь преизбыток плоти.
ЗАМЕТКИ О СУМАРОКОВЕ
ЗАМЕТКИ О СУМАРОКОВЕ
1
Он к старости уж вовсе стал чудак:
он с Анненскою лентой брел в кабак,
в халате, по-домашнему одетый.
А в юности — рассказывают так —
в грязь выскочил из щегольской кареты
и отдал нищему фрак и манжеты.
Эффектно: Сирано де Бержерак
или Оскар Уайльд. Но в том и смак,
что он не сколок их, а самородок
из русских недр и в самых сумасбродствах
он — русский («…я не Байрон, я другой…» —
воскликнет Лермонтов, и Сумароков
был самобытный, не переводной).
Вот и потом: женат на крепостной
или с начальствующим над Москвой
фельдмаршалом и графом Салтыковым
о деле, как казалось, пустяковом
готов повздорить — шум и кутерьма…
«Безумен» — как изволила сама
свой высочайший суд изречь царица.
Точнее, горд и вспыльчив. И смириться
не мог. И оставалось спиться, сбиться
с пути, пропасть по-русски, задарма,
и, щелкнув дверцей, выскочить из этой
жизни, как некогда из той кареты.
2
Из писем Сумарокова аж тридцать —
письма-прошения к императрице
Екатерине. За двенадцать лет
целую кипу написал поэт.
Пожалуй, даже книгу. Книга эта
могла бы называться «Жизнь поэта».
И для театра письма были б клад:
один актер и минимум затрат.
А текст! Какие страсти временами
в этой житейской вспыхивают драме!
Не в «Синаве и Труворе», а здесь
он сам — смешной, но и великий — весь.
Чего он просит? Денег, денег, денег
(квартирных, жалованья и т. д.,
и за труды, и снизойдя к нужде).
И вдруг—поверив собственной звезде —
загранкомандировок, деревенек.
Нет, он не жадничает. С ходом дней
тон жалобней, желания скромней.
Вернуть бы только долг Демидову Прокофью —
две тысячи рублев.
Есть в письмах строки, писанные кровью
и желчью (изредка). Он даже грубых слов
не избегает в них: «голодная собака» —
он пишет о себе. Однако
достоинство звучит в его речах,
когда он говорит о жалких рифмачах
и о своих трудах. И гнева слышен звук,
столь неожиданный средь жалобы и стона:
сил нету от «вельмож, вокруг стоящих трона»
(почти что Лермонтов, предвосхищенный вдруг!)
«и от гонителей художеств и наук».
А этот искренний, вдруг вырвавшийся возглас
средь всенижайших просьб: «…бедность рождает
подлость…
Кто хочет быть поэт, не может же быть подл…»!
Что чувствуете вы, читая этот вопль?..
А годы все идут. Уже не заграницы
он просит у царицы —
«всеподданнейший и нижайший раб»,
покинув Петербург, зане здоровьем слаб,
просит деревнишку, которая могла б
парнасским быть убежищем, дала б
успокоение для духа, а дохода —
стихами более чем хлебом, пусть мала,
большой не надобно, лишь бы к Москве поближе,
уже ни о каком не грезит он Париже,
жизнь утомила, старость подошла,
здоровье исчезает, зренье слабнет,
уже он лета ждет, зимою зябнет…
Еще странички три… Последних лет
есть письма лишь к Потемкину. К ней - нет.
ВАСИЛИЙ РУБАН И ДРУГИЕ
ВАСИЛИЙ РУБАН И ДРУГИЕ
Василий Рубан писывал, бывало,
за деньги (лишь бы сходная цена),
за шубу (чтоб в тепле была спина),
за чаю фунт и за кусок сукна
(на фрак), за десть бумаги (что ж так мало?)
и за бокал тавридского вина.
Бедняга Рубан! Выходец из плебса.
Негорд. И, в сущности, неприхотлив:
у Феба просит он «кусочек хлебца»,
карман деньгами не отяготив.
Бедняга Рубан! Сын голодной бурсы:
обедом накорми — напишет стих.
Но сыты ж москвичи и петербуржцы
и за язык никто не тянет их!
Ведь знают: «лесть гнусна, вредна». И все же
льстят, славословят, восхваляют, лгут
и жмутся — сочинители в прихожей —
и ждут вознаграждения за труд.
Как собачонки, ждут подачки сверху.
Скулит, визжит — глядишь, и получил.
Иному — перстень или табакерку,
иному — орден, титул или чин.
Позор!
Но и Державин, гордый, дерзкий
потомок необузданных татар,
перечисляет табакерки, перстни,
им от царей полученные в дар.
И Ломоносов. Он Елизавете
пел дифирамбы. Принимал дары.
И Ломоносов. Даже он.
А эти,
усвоившие правила игры,
хоть с меньшим даром, но с не меньшим
жаром,
томимы жаждой матерьяльных благ,
строчат, строчат, став пагубой, кошмаром
поэзии российской.
Боже, как
порасплодились! Нет им переводу.
Бедняга Рубан, тот погиб в нужде.
А эти — богатеют год от году
и дальше громоздят на оду оду,
прут вверх и вверх во всякую погоду,
как злой бурьян, разросшись на гряде.
“Державин был солдат. Ругался по-солдатски…”
* * *
Державин был солдат. Ругался по-солдатски,
перелагал в стихи солдатские прибаски,
где словом площадным — вот в том и интерес! —
сбивается вся спесь с торжественных словес.
Вот почему его высокие паренья
не превращаются в пустое говоренье:
высокопарности в нем был противовес,
поскольку на Парнас он из казармы взлез.
АРХИТЕКТУРА И АКУСТИКА ДЕРЖАВИ НСКОЙ ОДЫ
АРХИТЕКТУРА И АКУСТИКА ДЕРЖАВИ НСКОЙ ОДЫ
Державин пишет: «…финн… и гунн…».
Столкнул — аж звон идет от стыка:
финн-гунн! Как колокольный гул,
названий дивная музыка
ликует, зыблется, гудет
в том сорокадвухстолпном храме
гигантской оды од. И свод
небесный, освещен звездами,
твердь голубую изогнул
и Запад побратал с Востоком.
…И неумолчное «финн-гунн!»
в пространстве гулком и высоком.
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Пространство сузилось. Не карту всей державы
Державин в мыслях зрит, но камские дубравы
и свежую листву, что на ветвях дубов
сияет, и Казань, и — с волжских берегов
чуть видный вдалеке — домой летящий парус…
Полвека за спиной. И хоть еще не старость,
но прежде Ахиллес, а ныне уж Улисс —
герой Державина. Вот огибает мыс…
Еще один… Еще… Река при камском устье —
как море широка. И столько сладкой грусти —
ноздрями ощутить деревню, детство, дым.
И думать, будто жизнь — не позади: пред ним.
В ПРИКАСПИИ
В ПРИКАСПИИ
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей…
Державин
В Прикаспии время движется медленно.
А солнце палит. И песком пылятся
кермек (жестковатая травка) Гмелина,
солянка (убогий цветок) Палласа.
Давно они оба почили, померли,
устав спотыкаться на русских верстах.
Паллас — в Берлине, у Гогенцоллернов,
а Гмелин — в плену у кавказских горцев.
Ученым не нужно гроба и савана.
За их добросовестность и усердие
огромной России флора и фауна
двум немцам дарует свое бессмертие.
Шатались престолы, и царства рушились.
Колеблются горы, мелеет Каспий.
А вечность песком присыпает рукопись,
листок за листком, описанья странствий.
А вечность песчинки мерит каратами.
И нет ни трудов, ни деяний тщетных,
поскольку аптекарской аккуратности
училась вечность у честных немцев.
В Прикаспии время движется медленно…
“О век осьмнадцатый! Как сладко он мечтал!..”
* * *
О век осьмнадцатый! Как сладко он мечтал!
Как полон был благой, хоть и наивной веры,
что просвещение, текущий сей кристалл,
обнимет шар земной подобьем новой сферы!..
ГЕРДЕР В РИГЕ
ГЕРДЕР В РИГЕ
Вижу старую Ригу и Гердера —
гнома рядом с громадой гигантского
храма, краеугольного, древнего,
крепкобашенного, коренастого.
Вижу Гердера, быстрого, юркого.
Вот он в доме богатого бюргера,
вот он в школе, вот в церкви, на улице,
вот в столярне, в слесарне, вот в кузнице.
Ходит, смотрит на домики, дворики,
городские листает он хроники
и над рынком и духом купечества
грезит грезу свою: Человечество.
Вся Земля ему снится общиною
мастеров, работящих и тщательных,
всех людей и народов отчизною,
любых ей и души в ней не чающих.
Вся Земля ему грезится Ригою,
но невиданной, новой,— вся полностью.
Пахнет солью, пенькою и рыбою.
Пахнет морем, простором и вольностью.
Вижу затхлую, косную, тесную
Ригу, бюргерско-провинциальную…
И гигантскую вижу концепцию.
Поднебесную. Монументальную.
АРХИТЕКТОР ЮРИЙ ФЕЛЬТЕН
АРХИТЕКТОР ЮРИЙ ФЕЛЬТЕН
Архитектор Юрий Фельтен
все заворожил умы.
Эрмитаж, решетка в Летнем,
набережная Невы…
А мое пленили сердце,
мой очаровали взгляд
иноверческие церкви,
что в стороночке стоят.
Немцу, шведу, армянину
Фельтен строил островок,
чтоб, заброшен на чужбину,
человек бы выжить мог.
Чтоб имел укромный угол.
Чтоб эстляндец или финн
о далеких близких думал,
но не мнил, что он один.
Чтоб купцы из Эривани,
вспоминая дальний дом,
чуть поменьше горевали
в Петербурге ледяном.
Фельтен зодчий был. А зодчий,
если в нем хоть что-то есть,
дарит хлеб заботы отчей,
а не плевелы эстетств.
Он берет в свою опеку
старца, девушку, дитя,
он смягчает человеку
боль и холод бытия.
В этом суть. А все красоты,
все ужимки и прыжки -
лишь забавны. Ну, кого ты
удивишь, как ни пляши!
Церковь, памятник ли, площадь,
дом, ограду, павильон
сочиняешь, будь попроще -
мы и так тебя поймем.
В пышном городе ампирном
(Главный Штаб, Сенат, Синод)
тонким лириком интимным,
будто грек на фоне римлян,
милый Фельтен предстает.
Милый, мудрый, добрый Фельтен,
мастер малых базилик,
тем красив, что не эффектен,
тем велик, что не велик.
Право слово, чудом редким
был среди других, больших,
этот малый архитектор,
свет и радость малых сих.
БАЖЕНОВ
БАЖЕНОВ
В Париж и в пиранезиевский Рим
он ехал, вероятно, через Ригу
и готику ее читал, как книгу
(дописанную позже им самим).
А дальше — морем. Парусный корабль,
шедевр архитектуры корабельной,
готический, барочный, стройный, цельный,
изяществом разумным покорял.
А море покоряло глубиной,
безмерностью и мощью мышц звериных.
Страх и восторг! (Как позже на вершинах
Швейцарских Альп.) Свободы ветр хмельной!
Все, что потом — в глуби материка —
он строил, было кораблями, морем,
горами. И борьбой: с судьбою, с горем…
А та поездка так была легка!
Так все давалось: знания, успех
(у женщин, книжников, вельмож — у всех),
Европы просвещенной благосклонность…
Но колоссальность, тысячеколонность
его проектов. Но его тоска
о грандиозном, жажда целый Кремль
построить заново — была российской.
Хотя Россию видел он как дебрь
и начинал строительство расчисткой
пространства.
Время грезилось ему
ввысь устремленным, острым шпилем башни,
и тяготенья гнет, и день вчерашний
отринувшим: как Петербург, что, тьму
лесов и топи блат превозмогая,
вознесся. Но пора была — другая.
Ей русский Пиранези, исполин,
не нужен был. Как скажет Карамзин,
он был лишь созидателем утопий…
Чудак, чудак! Остался бы в Европе!
Но — нет. Была Баженову нужна
Россия. С произволом самодержцев
и самодержиц, кои чтут за дерзость
чужое мненье. Все-таки — она.
Он исстрадается, не воплотив
десятой доли мыслей и проектов…
Есть что-то в ней такое, что, проехав
две-три страны и море переплыв,
перевалив через крутые горы,
издалека к ней обращают взоры
и возвращаются…
ТВЕРЬ
ТВЕРЬ
Все едут через Тверь. Обедают в трактире.
Поспят — ив Городню, в Завидово и в Клин.
И вот — «МОСКВА! МОСКВА!»… И дальше,
в глубь Сибири,
Радищев держит путь.
Премудрый Карамзин
путь предпочел иной. Не все писал, что думал,
и думал-то не все, что, при его уме,
подумать бы сумел.
А бог в нас душу вдунул,
чтоб могущий светить — светил. Как свет во тьме.
И у животных есть хоть слабый луч рассудка,
но только человек, познав добро и зло,
способен выбрать путь. И выбор сей — не шутка:
ты выбрал, а потом поехало-пошло.
Вот едет Карамзин до Рейна и Ламанша.
Радищев же — в Сибирь: Обь, Енисей, Илим.
А Тверь — все та же Тверь. И, как столетьем
раньше,
слепой старик в Клину поет про город Рим.
Об Алексее он, о человеке Божьем,
поет — и всей толпе понятен этот стих.
И все, что мы хотим, мы высказать ей можем:
есть уши у людей и чувства есть у них.
Но лучше — промолчать: опасны разговоры.
Радищев принял яд. Съел Карамзин обед.
Где повара купить? Всё пьяницы да воры.
Ни у кого в Москве хорошей кухни нет.
«О, если бы рабы!..» — так выкрикнул Радищев.
Зато Карамзина заботят господа
и прочность власти их в стране рабов и нищих.
…Все едут через Тверь. Но дальше — кто куда.
НА ПОЛПУТИ В ИЛИМСК
НА ПОЛПУТИ В ИЛИМСК
На полпути в Илимск, в пустынный мрак вселенной,
губернский был Тобольск, где просвещенья свет
чадил, дымил, но — тлел, Иртыш был Иппокреной,
и Сумароков там Панкратий жил — поэт.
Он лишь племянник был прославленного дяди
и не был сам велик, имея скромный дар,
но, как насущный хлеб голодным Христа ради,
на полпути в Илимск поэт поэту дан.
И этот крик «…Кто я? что я? куда я еду?» —
глас вопиющего в пустыне? Или те
слова, что другу друг, поэт сказал поэту?..
И эхо отдалось в сибирской пустоте.
СЫН РАДИЩЕВА
СЫН РАДИЩЕВА
А Павел, младший сын, жил в ссылке вместе
с ним.
А позже вспоминал порожистый Илим,
лесные ягоды, а из цветов — саранку,
из рыбы — хариуса, глухаря — из птиц…
тунгусов кочевых, татуировку лиц
и с бубном пляшущую старую шаманку.
Быть путешественником — это ль не мечта!
Никем не виденные увидать места,
ландшафты, племена и фауну и флору!
Мальчишке повезло. И он был молодцом:
на лодке ли, пешком – он всюду был с отцом
и был товарищем отцу еще в ту пору.
Потом был моряком. И по земле дорог
немало исходил, покуда в Таганрог
шестидесяти лет уехал, ближе к морю,
а может быть, к теплу, поскольку зябнуть стал
(в Сибири он не зяб), поскольку был уж стар
и спорить уж не мог с московскою зимою.
Под слежкой жил всю жизнь: хоть он
не бунтовщик,
но сын Радищева. А он уж и привык:
с фельдъегерем туда, с фельдъегерем обратно
уж в детстве ездил он…И памяти отца
остался верен он до самого конца
как сын Радищева. И это вот отрадно.
О ЧЕЛОВЕКЕ
О ЧЕЛОВЕКЕ
«О человеке, его смертности и бессмертии»
Радищев тоже знал, что человек
жалок и немощен, наг, алчущ, жаждущ.
Что, кроме праха, ничего в нем нет.
Что тянет вниз его, в нечистый грех,
в грязь, в копошение жучищ и жабищ.
Что, в пище почерпая бытие,
жрущий и пьющий, человек подобен
животным. Что подобного себе
лишь он один из всех зверей способен
пожрать. Что может горло перегрызть.
Что человеком движет лишь корысть.
Что он, страстям и похотям послушный,
рожден, как скот, топтаться и пастись.
Что дух, пытающийся взвиться ввысь,
вновь падает, как рваный шар воздушный.
Что люди ищут власти, денег, благ
и удовольствий, избегая бедствий,
страданий, страхов. Да. Все это так.
Радищев знал. Не хуже, чем Гельвеций.
Но знал, что в человеке что-то есть
еще. Не только низменность и низость.
Радищев знал такое, что прочесть,
кроме как в нем, и негде: и не снилось
другим философам… Листая том,
знакомый мне местами близко к тексту,
все к одному я возвращаюсь месту:
что человек как в добром, так и в злом
еще себя покажет…
ИСТОРИЯ С ОБЕЗЬЯНОЙ
ИСТОРИЯ С ОБЕЗЬЯНОЙ
…стоит напомнить об обезьяне графа
Зубова, о кофейнике князя Кутузова
и проч. и проч.
Пушкин. О русской истории ХVIII века
Вздыхают, ахают: «Ах, высший свет!» —
я в споры не вступаю,
я забываюсь, как бы засыпаю
и слышу визг и смех
откуда-то издалека.
Cмех — человеческий, а визг — зверька.
Да, именно зверек — важнейшая персона
в истории. Конечно, не во всей,
а в этой вот, в моей.
Во время оно
у Зубова Платона,
который прихотью царицыного лона
стал первым из людей,
вокруг стоявших трона,
и, стало быть, вершил дела,
была
любимица: малютка-обезьяна.
Из-за какого моря-окияна
она
была привезена,
дознаться я не смог.
Но суть совсем не в том.
А в чем?
До сути тоже, может быть, дойдем,
но дайте срок.
Вельможи,
которые к Платону были вхожи
и лезли вон из кожи
и милостей его искали как могли,
пред гостьей из чужой земли
заискивать пытались тоже.
А способ был:
зверек любил,
больше чем всякие плоды и мармелады,
вкус пудры и помады,
а напомаженный, напудренный тупей
(прическа модников тех дней)
был для него всего вкусней.
Малютка, Зубова всегдашняя забава,
резвилась: прыгнет влево, вправо,
на люстру, на карниз, то вверх, то вниз,
и вдруг, издав веселый визг,
вцеплялась в волосы какого-то счастливца —
и треплет всласть,
а тот стоит, боясь пошевелиться,
и ждет, почтительно склонясь:
быть может, милостиво рассмеется князь.
Дмитрий Борисович Мертваго,
увидев обезьяну, счел за благо
дать задний ход,
махнув рукою на предмет хлопот,
тянувшихся почти уж год,
и уклонился от подобной чести.
Но — удивительное дело! — нет известий,
что кто-либо хоть раз хоть как-то возроптал.
По крайней мере, я такого не читал.
А все ведь были знатные дворяне.
И так прислуживаться — обезьяне!
И над толпой холопствующей дряни
смех всемогущего временщика,
смешавшись с визгом малого зверька, взлетал
и так летит через века.
“В Емуртлинском форпосте сибирских драгун…”
* * *
В Емуртлинском форпосте сибирских драгун
были церковь, острог и казенный амбар -
Петербург ведь и здесь свою линию гнул,
кнут и здесь погулял по крестьянским горбам.
Здесь, вдали от дворцов, за Уральским хребтом,
Петербург был указом, штыком и кнутом -
кровь лилась, и людская стонала душа.
…А культура сюда приходила потом:
не спеша добиралась она… не спеша…
ДЕРЕВНЯ
ДЕРЕВНЯ
Ничто не может быть приятнее свободы.
Для благородного сословья. Мужичье
должно кормить господ и приносить доходы.
Неволить надобно их. Каждому свое.
Но можно иногда, как Карамзин, как Пушкин
(в лицейских «Dubia»), для красоты стиха,
крестьянку встречную вообразить пастушкой,
в объятья милого спешащей пастуха.
И, с наслаждением живописуя лоно
природы (лес, холмы), представить, кроме фона,
фигурки поселян, для живости картин…
А «барство дикое, без чувства, без закона»
лишь Пушкин разглядит. Отнюдь не Карамзин.
ПОДМОСКОВНАЯ УСАДЬБА
ПОДМОСКОВНАЯ УСАДЬБА
Марку Самаеву
Над деревенскою действительностью низкой
усадьба высилась, античная вполне:
у входа во дворец лежали львы и сфинксы,
и Аполлон стоял над речкой на холме.
Все рухнуло давно. Зияют стен руины.
Оглядываюсь я и разглядеть могу
лишь одичавший парк да над речушкой ивы,
да несколько коров на низменном лугу.
Но, словно подарил и нас последней лаской
век восемнадцатый, витающий окрест,
мы смотрим на пейзаж, как будто он — голландский,
в Европе купленный владельцем этих мест.
КУСКОВО
КУСКОВО
Кусковский парк ничем не виноват,
что уроженцу невских берегов
напоминает он то Летний сад,
то Царскосельский парк, то Петергоф,
что статуи Скамандров и Наяд
и прочих полугипсовых богов
стоят как в сотнях парков и садов —
и в Вене, и в Версале, говорят.
Я далее Варшавы не бывал
(Саксонский сад, Лазенки и Вилянов),
но мне понятен этот идеал,
которым парк себя приподымал,
и над равниной плоской привставал
на цыпочки, и маску надевал,
чтоб отличаться от простых мужланов.
Кусковский парк ничем не виноват,
что чуть наивен этот маскарад.
КРЕПОСТНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
КРЕПОСТНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Ах, Россия екатерининская,
вся в барокко и в рококо!
Но для некоторых — тернистая.
Рай и пекло. Как для кого.
Новый Рим и новая Греция,
где склонилась ниже травы
крепостная интеллигенция —
образованные рабы.
Образованный — не забава ли!
Все умеет: читать-писать,
на запятках ездить за барином
или пятки ему чесать.
Все умеет: ломать комедию,
на басу играть, на альте,
а пошлешь его в академию —
пишет красками на холсте.
Итальянца нанять ли, немца ли —
тем пришлось бы платить сполна.
Крепостная интеллигенция —
чуть не даром служит она.
Если ж барин изволит гневаться,
есть на ком сорвать ему гнев:
крепостная интеллигенция —
образумить ее не грех!
Музыканты, актеры, певчие —
это им почитай что честь,
если их порой по-отечески
на конюшне велят посечь.
Обе скрипки секут — и первую,
и вторую, баса, альта,
декоратора, архитектора,
карлика, дурака, шута.
Подзатыльники да пощечины,
колотушки, пинки, щипки…
Позабыли о пугачевщине?
Будут новые бунтовщики!
Но пока что попытки тщетные
непокорным впрок не идут.
Но пока что кому-то — в Щепкины,
а кому-то — в петлю и в пруд.
Раболепствуя и лакействуя,
задыхаясь, желчью давясь,
крепостная интеллигенция —
ненавидит барскую власть!
“Плафоном и панно…”
* * *
Плафоном и панно,
холстом или гравюрой,
театром и кино
и лишь потом — натурой
становится пейзаж
с лесами и холмами,
лишь потому и наш,
что сочиненный нами
по лучшим образцам
художников эпохи…
И вот витают там
мечты, стихи и вздохи.
“Словесный сад…”
* * *
Словесный сад.
В нем статуи имен.
Цветы цитат
произрастают в нем.
В нем как стекло —
проточных мыслей пруд.
Сам Буало
одобрил бы сей труд.
Вот Музе храм.
Вот сердцу Монплезир…
Но не бежать ли нам
в безумный мир?
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ
Николай Александрович Львов
двух поэтов имел свояков —
это были Державин с Капнистом
И Хемницер совет с ним держал,
и Бакунин-отец уважал,
и у всех, кто его окружал,
он считался верховным стилистом.
Он во многих помянут стихах.
А свои он писал впопыхах
и записывал их как попало.
Кое-что он издал, кое-что
издают, слава богу, дошло,
обещают издать — хорошо,
кое-что, вероятно, пропало.
В дилетантстве особый есть шик.
Кто хранит каждый стих, каждый штрих,
у того за душою лишь крохи.
Львов поэтам себя раздавал.
Мысли Львова другой рисовал
или строил, ваял, танцевал —
Львовым дышит весь воздух эпохи.
ИСТИНА В СЕНАТЕ
ИСТИНА В СЕНАТЕ
Где перед Истиной благоговенья нет,
там и Художества окажутся некстати.
Француз Рашет
большую залу украшал в Сенате.
Работал, не жалея сил.
В ту пору
уже он мастер был:
он мрамору, фарфору,
он бронзе мог придать изящнейшую форму,
был молод, но владел блистательно резцом.
И не хотел ударить в грязь лицом.
Два барельефа сделал он. Один —
центральный, больший—украшал камин.
Мысль — Львова, а рисунок был — Козлова,
но это, так сказать, скелет.
Рашет,
наш северный Канова
(он жил потом в России тридцать лет,
до самой смерти, и оставил след,
и доброго заслуживает слова
дал мысли плоть и жизнь вдохнул в сюжет.
Сюжет — такой:
Минерва (в коей каждый зрел портрет
Екатерины) вводит за собой
в храм правосудья Истину и Совесть.
Такие аллегории — не новость
для тех времен. Но Истина была
(как, впрочем, ей и должно быть) нагой.
Голым-гола.
Вот этот барельеф
и вызвал гнев
у князя В., то бишь у генерал-
поручика (по чину), -прокурора
(по должности), ну, словом, контролера
всего и вся, который надзирал
по поручению императрицы,
поставившей его (хоть большего тупицы
свет не видал)
следить, дабы Сенат не преступал границы
и в благочинии бы заседал.
Скандал!
Князь бросил беглый взгляд
и в Истине нагой тотчас узрел разврат.
А значит, вверенный ему Сенат
соблазну подвергать такому не годится
и надо Истину хоть несколько прикрыть.
Прикрыли. Так тому и быть.
Решету
историю простили эту,
но он уже убавил прыть
и жил с тех пор под некоторым страхом.
Князь не был евнухом или монахом
и к дамам и к молоденьким девахам
частенько езживал, но был – ханжа.
И, добродетельной монархине служа
в делах правления (а не в ее постели,
как многие), любил во всяком деле
порядок. Государственный был муж.
К тому ж
был набожен: заняв высокий пост,
следил, чтобы в великий пост
в Сенате все чины говели
положенные две недели,
и вообще, как говорится, бдел,
помимо дел,
о добронравии.
И весь Сенат сидел
смирнехонько и постный вид имел,
и на камин никто уж не глядел,
и все дела решали и судили
в Екатеринином, чуть лицемерном, стиле,
нагую Истину – прикрыв.
А в царствованье Павла
постигла Истину уж полная опала:
сломали барельеф и спрятали в архив.
ВЕСНА 1801 ГОДА
ВЕСНА 1801 ГОДА
Был месяц март. Над Петербургом
вступало солнце в знак Овна.
Снег таял. И однажды утром
явилась подлинно весна.
Нет Павла! Кончились запреты.
На Невском — оживленье, смех.
Уже и фраки, и жилеты,
и шляпы круглые на всех.
Все дамы обнажили шеи,
рук приоткрылась белизна.
А либеральные идеи
пьянят отчаянней вина.
Нет Павла! Кончилось бесправье
и гнусный и постыдный страх.
Шампанское — ура! за здравье! —
кипит в бокалах и в сердцах:
Ах, Александр! Он агнец! Ангел!
Как юн! Как кроток он! Как добр!
Как мил! Как с дамами галантен!
Весь город им пленен и двор.
Весна! В том светлом март-апреле,
как воды вешние, шумели
бесчисленные оды: он —
сей Антонин, сей Марк Аврелий,
Траян и Тит — грядет на трон
Он нас избавил от позора
Топор и кнут забудем мы.
Радищева из-под надзора,
Ермолова из Костромы
вернул. И ожили умы.
О, незабвенная весна
отмен, прощений, возвращений!
Надежд, мечтаний, обольщений
пленительные времена!
Весна! В тот год она продлилась
до сентября, до октября.
И на Москву распространилась
в дни коронации царя.
Еще такого не бывало.
Москва, губернии, страна
расшевелились. Всех прорвало.
Сановник старого закала
строчит письмо из-за Урала:
нам конституция нужна.
Свобода! Словно из-под пресса,
Россия вырвалась. От сна
красавцем юношей она,
как в гробе спавшая принцесса,
волшебно вдруг пробуждена…
Но отшипит в бокалах пена,
а охранители основ
подготовляют постепенно
успокоение умов.
И Александр иным предстал,
туманные мечты рассеяв:
хоть Александр-то Александр,
но — Павлович. И Аракчеев
стал тенью светлого царя,
как тайное второе «я».
И светотень царила долго:
то так, то сяк была погода,
то так, то сяк менялись дни…
Но та весна! Но те полгода!..
Да полно! Были ли они?
СТАРИК ДЕРЖАВИН
СТАРИК ДЕРЖАВИН
В искусстве — стиль ампир. На троне — Александр.
И лишь в поэзии — «Персей и Андромеда».
Век — новый. Царь — младой. И лишь Державин — стар.
Он стар — как древний грек, грек, живший до Гомера.
Как Змей Горыныч — стар. Как тот Пифон-Тифон,
что в Дельфах богом был еще до Аполлона,
что из расселины, как из земного лона,
сын Матери-Земли, таинственно рожден.
Век — девятнадцатый. Державин — архаизм.
Барокко. Готика. Старье. Средневековье.
Но вечность — это шар. Условны верх и низ.
Условны старь и новь. А эта мощь воловья
и ярость львиная — вне всякой смены мод,
вне стилей, школ, манер. Ядро. Первооснова.
…Пиши! Не все ль равно, какой там царь и год.
Ты до потопа жил. До рождества Христова.
ИВАН ДОЛГОРУКОЙ
ИВАН ДОЛГОРУКОЙ
Князь-чудила Иван Долгорукой
не причислен к канону поэтов,
не уважен солидной наукой,
как Державин, Крылов, Грибоедов.
Не успел им заняться Тынянов,
а Гуковским он вскользь упомянут,
нет его и у Лидии Гинзбург,
нет в учебниках, в схемах и в «измах».
Да и лучше, что нет его в «изме»
ни в каком: так ему повольготней
поболтать о себе и о жизни,
о политике и о погоде,
о царях, о знакомых, о близких,
как болтал он в стихах и в «Записках».
Князь от предков имел только имя.
Дед на плаху пошел, бабка в схиме,
из Сибири вернувшись, скончалась,
и отцу ничего не досталось.
Опыт деда учтя и отцовский,
князь на вещи смотрел философски
и не царскую славил порфиру,
а соседей, друзей и Глафиру.
Что ни день — над стихами сидел он
(что ни вечер — в гостях или в клобе),
но считал стихотворство не делом,
а забавой (по-нашему: «хобби»).
Князь — служил: по Владимирам, Пензам…
Он хотел быть России полезным.
Он о правде радел и о нуждах
человеков крестьян ли казенных,
унижённых ли, пренебрежённых,
незаконнорожденных, недужных.
О полезном радел, о приятном.
Влюбчив был. Увлекался театром.
Все вмещал. И с размахом российским
в сочетании невероятном
был он верующим вольтерьянцем,
робеспьерствующим монархистом.
Впрочем, в годы французских событий
он был зрителем-энтузиастом:
революция, что ни судите,
задремать в наших креслах не даст нам.
Он историю видел на стыке
двух эпох, двух веков, двух столетий.
Может, сам он поэт не великий —
стык веков был великим в поэте.
Все смешалось у князя Ивана:
клял старье и бранил современность,
новомодную власть чистогана
и боярскую спесь и надменность.
Уважал он лишь голую правду,
а не рубль и не табель о рангах.
Павла крыл, но не льстил Александру.
Не вмещался в каких-либо рамках.
Князь — но, как скоморох из народа,
он в стихах был врагом этикета.
Есть в них ярмарочная свобода
(как однажды в державинских где-то).
Он любитель. Он вольная птица.
Значит, может писать как попало,
и неряшество это простится,
как дурачества в день карнавала.
Смесь французского с нижегородским
он в такие закручивал речи,
что Олейникову с Заболоцким
он вполне бы годился в предтечи.
Он поэтам подарок богатый.
Пушкин в полусожженной десятой,
в потаенной, в подполье романа,—
лейтмотивом-рефреном-цитатой
повторяет словцо князь Ивана.
За словцо зацепиться б за это
да и вытащить князя из Леты,
и с «Записками», и со стихами,
и со всеми его потрохами!
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ МЕРТВАГО И ЕГО «ЗАПИСКИ»
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ МЕРТВАГО И ЕГО «ЗАПИСКИ»
Служил. Но не выгодам личным, а пользам казны.
А служба — лишает волос, умножая морщины,
и вот уже он оплешивел и вышел — в большие чины?
Да нет же, в отставку, сорокалетним мужчиной.
Но вновь он на службе. Он ездит (Литва и Волынь),
он ездит и ездит (вот в Выборге, в Риге и в Ревеле)
от южных степей, где лишь ветер волнует ковыль,
до северных скал и озер бездорожной Карелии.
Россия обширна, но всюду грабеж и разор,
погрязли в грехе, а ведь всех не побьешь их каменьями.
И хмурится он, невеселый, как тот ревизор,
который появится по окончаньи комедии.
Еще далеко здесь до Гоголя, до Щедрина,
до Крымской войны, до реформы, до всех революций.
Но каждому жить достается в свои времена,
а жить надо честно и в те, что тебе достаются.
Он видит помещиков алчность, крестьян нищету,
и хищность купцов, и порхающих щеголей праздность,
чиновников, что ухитряются быть у начальства на самом
хорошем счету,
поскольку начальники сами погрязли
во взяточничествах-казнокрадствах.
И тех нетрудящихся трутней, что в тягость стране,
и нехлебородные почвы, что хлеба дают еле-еле,
и бесчеловечную палку, что бьет по согбенной спине,
бездарность министров, несущих убыток казне,
интриги придворных (и царь справедлив не вполне),
бесплодность прожектов, витающих аж на Луне,
и дурь староверов, приверженных лишь старине,—
и столько он всякого видит, глаза б не глядели!
И как живописец, что яркость цветов и плодов
притушит коричневым аллегорическим черепом,
он пишет записки, как будто глядит с облаков
на тщетность тщеславий и временность временщиков
(едва ль не единственный,
он не раскланивается с Аракчеевым).
Ни даже Ермолов его не чарует, ни даже Кавказ.
Прищуривши глаз, он рисует без всяких прикрас
и низких пролаз, и потомственный правящий класс:
дворяне, но дряни, как молвится в грубой пословице…
Он мог бы вполне пугачевщиной кончить рассказ,
но ею он начал. А кончит — словами о совести.
КРЫЛОВ И ТВЕРЯКИ
КРЫЛОВ И ТВЕРЯКИ
Все тверяки твердят, что, мол, Крылов — тверяк:
«Все наше — ум, язык, словечки, прибаутки!»…
Но не хотят признать себя в его зверях:
«Нет, это не у нас — в Москве и в Петербурге!»
ГОЛОС
ГОЛОС
Военачальник и стратег,
Барклай стоит перед Казанским.
Военный этот человек
велик был мужеством гражданским.
В стране безгласной и немой,
где собственных не терпят мнений,
Барклай возвысил голос свой
против военных поселений.
Нет, ничего он не достиг…
О нем, почти что неизвестном,
лишь пушкинский напомнит стих
да этот памятник на Невском.
Но голос — был! Сто лет пройдет,
сто пятьдесят пройдет — и ныне
все слышен, слышен голос тот,
глас вопиющего в пустыне.
КИПРЕНСКИЙ. ПОРТРЕТ С. С. УВАРОВА. 1816 ГОД
КИПРЕНСКИЙ. ПОРТРЕТ С. С. УВАРОВА. 1816 ГОД
Как денди лондонский, одет. И смотрит лордом.
Красив. Самонадеян.
Он может пылким быть, мечтательным и гордым,
как Байрон, как Онегин.
Разочарованный, он прелесть ранней смерти
воспел французскими стихами,
с изяществом, приобретенным в свете,
явив и быстрый ум, и душу, то есть пламя.
Он геттингенствует, он письма пишет в Веймар,
он грезит по-немецки,
он знает города меж Неманом и Рейном,
словно Тверскую или Невский.
Он книгой «Nonnos von Panopolis, der Dichter»
стяжал признанье Гёте.
Не книгой убедит, так гётевским вердиктом,
коль нужно убеждать еще кого-то.
Эстет и дипломат, не упадет где скользко.
Собой владеет в совершенстве.
Был (как Шатобриан) секретарем посольства.
Любитель древностей и путешествий.
Он покорил сердца французов и австрийцев.
Жуковского пленил талантом.
Уже он выгодно женат (как должно в тридцать),
но все еще остался франтом.
Стоит, позирует (в эффектном интерьере),
поигрывает стеком…
А сам уж движется к блистательной карьере,
ступая в ногу с веком.
Как поэтичен он, стоящий у колонны!..
А лет через пятнадцать
останется лишь лоск, блестящий и холодный,
да светская приятность.
А дальше — постепенное врастанье
в роль, в должность, в держимордность
под тройственным девизом «православье,
самодержавье и народность».
Где грезы светлые об идеале?
Где чувства? Где душа? Ау! Уваров! Где ж ты?..
Ах, юноши! Ведь вы же подавали
надежды!
Три арзамасца, три карамзиниста —
Дашков, Уваров, Блудов!
Три мудреца младых… А будут — три министра.
Три царедворца будут.
Три краха, то бишь три больших карьеры
при Палкине, при Николае…
Увы! Как быстро вы перегорели!
Как низко пали!
Благоволение монарха. Звезды. Ленты.
(И тайный страх попасть в немилость.)
Какие были вы прелестные студенты!
Где юность? Нет ее. И чем сменилась!
Так пышный перистиль ведет порой к руинам
и пышные врата — к пустотам…
Чем можете блеснуть? Чем? Орденом и чином?
Вы, жалуемые деспотом!
Три умника среди тупиц послушных.
Три ложки меда в бочке дегтя.
Три взрослых мальчика на побегушках,
готовых делать что придется:
держать в тисках умы (такая уж работа!),
блюсти за духом молодежи
и запрещать Гюго, а также Вальтер Скотта,
стоять на страже, и — построже!..
И лицемерить. И творить кумира
из самодержца-солдафона.
И слушать лесть льстецов… А дома у камина
меланхолически вздыхать про время оно.
Ах, бедные балованные дети
эпохи Александра!..
Вот молодой Уваров на портрете.
Он самый, как ни странно.
Друг Муз и Разума. Поэтов вдохновитель.
Хоть мы привыкли знать другого,
но это он. Таким его Кипренский видел
весной шестнадцатого года.
Да он и впрямь хорош! Все поддаются чарам:
художник, зрители… Я тоже
стою и не могу связать конец с началом.
Лишь бормочу: «…моложе был, моложе…»
ГРЕЧ: ВСТРЕЧА С БАТЮШКОВЫМ
ГРЕЧ: ВСТРЕЧА С БАТЮШКОВЫМ
Фигурка Батюшкова из «Записок» Греча:
та петербургская, последняя их встреча
на улице… Каков бы ни был Греч,
«Записки»-то его написаны неплохо.
Взять этот эпизод — и город, и эпоха,
и образ Батюшкова. Вот о нем и речь.
«Субтильный Батюшков» — так пишет Греч.
Субтильный —
но бремя страшное эпохи непосильной
он нес, как маленький Атлас.
Трех войн участник был, не то что очевидец.
И прозвище «Ахилл» стяжал. И впрямь
как витязь
был храбр. И ранен был не раз.
Он видел кровь и смерть, развалины, пожары,
все ужасы войны, когда Европы старой
аж содрогался континент:
высокобашенный вдали чуть виден Лейпциг,
и на пятнадцать верст — тела убитых немцев,
французов, русских и… кого тут только нет!
Он плыл, как Одиссей, но тщетно он искал
Итаки сладостной давножеланных скал,
успокоения, гармонии и лада.
Землетрясения. Вулканы. Дантов ад.
Укрыться некуда. Покоя не сулят
ни огнедышащий Неаполь, ни Эллада.
В краях полуденных приюта не найдя,
дух, в бурях бедствующий, утлый, как ладья,
в Ultima Thule плыл, в страну сплошного мрака.
…Несчастный Батюшков шел по Большой
Морской.
Вот-вот уж скроется. А Греч смотрел с тоской
вслед уходящему. А ветер был такой
в тот день, что поднимал — Греч пишет —
фалды фрака.
Дул в спину Батюшкову, гнал во тьму, во тьму,
в которой тридцать лет еще страдать ему.
“Философы! Не верьте островам!..”
* * *
Философы! Не верьте островам!
Платон, не отправляйся в Сиракузы!
Господь не зря Утопию скрывал,
плывущих мимо искривляя курсы.
Пусть даже есть там пресная вода,
плодовые деревья
и туземцы,
чья непосредственность и нагота
в прекрасном будущем вполне уместны,—
философы, не верьте островам!
Как верил тот Мабли, аббат крамольный,
стремясь душой на некий остров вольный
от старых и давно постылых стран.
Не верьте!
Но мечтательный Капнист
(наш русско-украинский утопист,
которого мы часто забываем)
поет про остров, созданный быть раем:
ни ябед, ни судилищ, ни судей…
Василь Васильич! Ты неподражаем!
Не молод уж — пора бы стать мудрей!
Отцы научат грезить сыновей,
на их погибель. Мы их заклинаем:
не верьте островам!
Но Муравьев
(тот, что потом командовал полками
и поседел средь штурмов и боев)
зовет с собой на Остров Островов.
Он основать республику готов
в собратстве с юными учениками
на острове, рисуемом мечтами.
Там так щедра природа, что даров
хватает всем. Там все дается даром.
Там нет царей, цепей, тюремных камер.
Там нет цензуры, церкви. Наконец,
цивилизации. Нет, нет и нет!
Там дикари в младенчестве безгрешном.
(Отметим в скобках с мыслями Руссо
фантазий этих близкое родство.
Все можно объяснять влияньем внешним.
Но россиянин остров рисовал
сам. Он лазурным раем представал,
чуть зыблем лаской зноя, волн и ветра…)
Философы! Не верьте островам!
Но верят вновь.
Наивно.
Беззаветно.
ПЕРЕД ДВЕРЬЮ
ПЕРЕД ДВЕРЬЮ
Обсуждают обряд присяги:
на евангелии? на шпаге?
Ищут слов каких-то особых,
чтоб торжественнее, страшнее…
Может, как у старых масонов,
клятву дать - с веревкой на шее?
Может, прежде чем примут брата
в лоно братства и свет покажут,
завязать глаза, как когда-то?..
(Как идущим на казнь завяжут?).
Может, деньги забрать и кольца?
Может, ядом страшить? Кинжалом?
Может, мраком? (Не будет солнца:
камер каменные колодцы -
узникам; рудник - каторжанам).
Обсуждают обряд присяги.
Говорят о всеобщем благе.
Все высокой полны отваги
и к высоким словам и жестам
склонны, даже чуть-чуть с кокетством,
с фразой, с позой, пусть так, я верю,
но юнец в гвардейском мундире
ведь и впрямь стоит перед дверью:
дверью гроба? тюрьмы? Сибири?
«БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ»
«БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ»
«Братья-разбойники». «Кнут» и «острог» -
два бунтовщически-каторжных слова.
Волга. И сквозь байронический слог —
тени то Разина, то Пугачева.
Волга. И Астрахань (в черновике,
в первом наброске сценария-плана).
Песня: поют и плывут по реке…
И есаул предает атамана.
Движется, движется план и сюжет —
к Лобному месту, на площадь, на площадь…
Но и бессвязный, бессмысленный бред
брата больного о том же пророчит:
Лобное место. Туда он и гнет:
площадь, толпа и палач беспощадный…
«Если читательниц не отпугнет,—
пишет Бестужеву,— то напечатай».
«Если читательниц…» Или другой
дуры: цензуры.
Бестужев хлопочет.
Вышел журнал — в двадцать пятом, весной.
А в декабре — вышли на площадь:
Лобное место…
А будут там все,
только не всем еще время приспело.
Он ведь не зря (в том же самом письме)
вспомнил зловещее «слово и дело!».
Пуля свинцовая, два ли столба —
царская милость в любых вариантах.
Лобное место — сюжет и судьба.
Он ведь не зря именует себя
(Левушке, в письмах): «Разбойник-Романтик».
Даже пытался сдружиться с царем.
Пробовал даже любить свои цепи.
Все же — казнили: в тридцать седьмом.
Спрятали тело в Конюшенной церкви.
«Братья-разбойники» — «кнут» и «острог»…
Будто ему уже было известно:
жизнь — лишь отсрочка, а близится — срок:
Черная Речка — Лобное место.
ГЛАЗАМИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА
ГЛАЗАМИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА
«Оссиановские облака»,
«скандинавская» ночная буря…
В «Путешествии» что ни строка —
подчинен ландшафт литературе.
Но, отдав литературе дань
и над ней и над собой возвысясь,
некую поэт преступит грань:
это в нем проснулся живописец.
И тогда уж черт ему не брат!
Схватит кисть, сверкнет очами зверски
и как мрачно-пламенный Рембрандт
пишет интерьер Потсдамской церкви:
Сумрак. Скудное мерцанье свеч.
Тусклая сияет позолота.
Алый (бархат драпировок) свеж
(тут уж он предвосхитил кого-то
из романтиков: Делакруа?).
Стен темно-багровые обои…
Или озарение другое:
он, едва лишь обретя крыла,
за шлагбаум выбравшись, пустился
в дальний путь — и вдруг узрел листву:
синих, желтых и пунцовых листьев
празднество осеннее в лесу.
Желтый — пусть, пунцовый — пусть,
но синий?
Этого ни на какой картине
не подсмотришь. Это уж его
живопись, его пейзажи, это
цветовиденье поэта, цвето-
пиршество и цветоволшебство!
МОЛОДОЙ МИЦКЕВИЧ (Триптих)
МОЛОДОЙ МИЦКЕВИЧ (Триптих)
1. Зеленая долина
Что ж поделаешь: возраст. Старею. Не стану,
как молодой Мицкевич к Чечоту и Зану,
писать письмо к кому-то с юношеским жаром,
увлекшись майским утром и пейзажным жанром,
живописуя в красках, трепетно, любовно
зеленую долину в окрестностях Ковно.
Горы, средь них — долина: то уже, то шире.
Солнце взошло недавно (он вставал в четыре),
но горы тень бросали; как едешь ущельем,
то те, то эти склоны, вслед за освещеньем,
зеленели на солнце, в глубине ж долины
тень была. А по склонам — деревьев куртины
(как в парке, чьи красоты Трембецкий прославил).
Мицкевич, план за планом, всю массу представил
рябин, черемух белых, ветвями сплетенных,
темно-зеленых елей и белоколонных
берез. Но здесь поэту мир немой наскучил,
и фильм он в этом месте внезапно озвучил,
дал слышать пенье пташек и журчанье речки,
чтоб слушатель и зритель острее и резче
воспринял центр пейзажа — крестьянок-литвинок,
с корзинками долиной идущих на рынок…
Мицкевич той долине верен, как влюбленный:
в «Гражине», в «Валленроде» (прощаясь
с Альдоной,
Конрад там вспоминает о «нашей долине»).
А позже, много позже, в парижской пустыне,—
все долины и горы, все деревья, травы,
реки, ручьи, озера, ельники, дубравы
Литвы и Беларуси уложит художник
в эпически спокойный тринадцатисложник.
Помните, в третьей книге, где граф с Телименой
и тут как тут Тадеуш, следивший за сценой,
но не граф с Телименой, не Тадеуш даже,
главное там — деревья, черемуха та же,
которую Мицкевич украсит и хмелем,
буки и дуб добавив к березам и елям,
боярышник припомнив, калину, малину,
богаче и пышнее создаст он картину.
Но в том наброске быстром, в том письме из Ковно —
он сам, живой и пылкий и скачущий конно!
2. А. М. 1823
Только «А. М.» и год —
на валуне, в долине.
Речка внизу течет,
так и течет поныне.
Разве что вот грязна,
да и неблаговонна,
а ведь была она
чистой во время оно.
Ну, да чего уж там.
Ладно. Скажем спасибо
лиственницам, дубам,
соснам - так и росли бы
дальше, как и растут…
Древопоклонник страстный,
к этим, растущим тут,
рвался он в годы странствий,
с Лемана и с холмов
Рима, от римских пиний,
к этим, что и без слов
поняли бы, к долине
(полной когда-то птиц…
Ну, да чего уж. Ладно.)…
Но не достиг. И Стикс
не переплыть обратно.
Да, но ведь он не весь
умер. Пресуществился.
Камень, лежащий здесь,—
тоже его частица.
3. Прощание с Литвой
Романтик виленский в Гарольдовом плаще
прощался загодя с Литвой зеленохолмой
и якобы всплакнул у друга на плече,
коль верить версии, какую друг запомнил.
«Прощай любимый край!..» — Вот тут он
и всплакнул,
на первом же стихе «Прощанья Чайльд-Гарольда».
Казенный дом его нисколько не согнул,
не испугал его. Но — дальняя дорога…
Быть может, и Сибирь маячила пред ним.
Быть может, Петербург был по-сибирски страшен.
Но хоть бы он и знал, что там — Одесса, Крым,
и этим не был бы отъезд печальный скрашен.
Лишь в ночь последнюю, беспечный, как студент,
он пел и пировал («Гей, насладимся жизнью!..»),
импровизировал под аккомпанемент
флейтиста Фрейенда… Да так и не ложился:
пируем до утра!
Но вот и рассвело.
Звонили к утрене, и город просыпался…
Он ясновидцем был, но разглядеть всего
не мог, а может быть, совсем и не пытался.
Копыта цокали по гулкой мостовой.
Друзья за бричкой шли до самой Погулянки.
И тут уж взор его застлало не слезой,
а Немана волной и синевой Паланги.
Прощай, любимый край! В изгнанье путь лежит.
Равно где изнывать от холода иль зноя.
Прощай, любимый край,— навеки и навзрыд:
как в этом выкрике: «Litwo, ojczyzno moja!..»
ИСТОРИК И ИСТОЧНИК
ИСТОРИК И ИСТОЧНИК
Историк — тщательность сама
(но не лишенный и ума) —
увидел фразу средь письма,
источник средь песков бесплодных.
Источник проливает свет,
где именно провел Поэт
один из вечеров свободных.
И все. Жемчужное зерно
историком извлечено.
А нужно именно оно,
не так ли? Да. Пожалуй. Но
навозной куче уподоблен
тот человек с егю письмом.
Не слишком ли большим добром
прирост познания удобрен?
Историк, разгребавший хлам
и фразу откопавший нам,
весьма доволен был собою.
Пошла та фраза по рукам.
А человек остался там,
весь человек, с его судьбою.
И хоть к Поэту он имел
лишь косвенное отношенье,
но он ведь жил: он пил и ел,
он думал, чувствовал, хотел,
он, может быть, душой болел
и бедных искренне жалел.
Бог весть. Тень остается тенью.
«БУДТО КАТАЯСЬ НА КОНЬКАХ»
«БУДТО КАТАЯСЬ НА КОНЬКАХ»
Записки. В нескольких строках
автор описывает, как
Пушкин отцу его, поэту,
читал памфлет против писак:
скользил, летая по паркету,
«будто катаясь на коньках».
А дальше — письма разных лиц,
обрывки сплетен, небылиц,
подробности о пышном бале,
где Пушкин тоже был, с женой,
и что, мол, Геккерн молодой
приличья нарушал едва ли.
Но этот вздор о пустяках
и попадание впросак
и вера мнениям и свету
простятся: автор как-никак
оставил фразу нам — вот эту:
«…будто катаясь на коньках…»
“В «Онегине», глава седьмая…”
* * *
В «Онегине», глава седьмая,
вы помните: Москва, Тверская,
и галочья чернеет стая,
на золотых крестах воссев…
И кто подумал бы, что эта
невинная строка поэта
митрополита Филарета
вдруг вызовет святейший гнев!
ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Адриатические волны!..
Пушкин
Российских юношей сжигал декабрь,
холодный огнь, сибирская могила.
А для Карамзина стоял корабль
в Италию. Но смерть — опередила.
А Баратынский плыл на корабле
в Италию. И вот уже Неаполь.
Но смерть подстерегала на земле,
едва корабль, причалив, стал на якорь.
А Батюшков Италии достиг,
писал: «Ты пробуждаешься, о Байя…»
Но заплатил за этот светлый стих,
в ночи безумья тридцать лет блуждая.
Италия! Символ земного рая…
недостижимого…
1835 ГОД
1835 ГОД
Айвазовский.
Но не Черное море, а вид в окрестностях Петербурга:
чайки, злаки (может быть, тростники?),
лодка, лежащая на песке, на ней сидит человек,
дата — 1835 год.
Пушкин был еще жив.
Воробьев.
М. Н.
«Осенняя ночь в Петербурге»:
сфинксы, луна, блеск Невы, световые эффекты
(за десятки лет до Куинджи),
дата — 1835 год.
Пушкин был еще жив.
Эпоха Пушкина? Эпоха — ничья.
Может быть, даже Пушкин — один из прохожих,
идущих осенней ночью по набережной,
и он уже видит сфинксов,
вот-вот минует здание Академии художеств,
та же самая луна вверху, а внизу та же самая Нева,
но живописец взмахнул, как палач топором, отрубил,
оставил фигурку за пределами этой картины…
Его здесь нету.
Но вот они, эти сфинксы.
Вот эта набережная.
И картина, вот она, есть.
“Конюшенная церковь…”
* * *
Конюшенная церковь
мундирами полна.
Ни одного тулупа
или зипуна.
Один лишь Никитенко
от всех от них:
бывший крестьянин,
из крепостных.
«Бедный Пушкин!
Тебя уже нет.
Зачем тебе нужен был
высший свет?
Зачем ты в эту касту
хотел попасть?
Ты ведь был призван
стать выше каст!
Тебя теперь хоронит
сановная знать —
бросили на сани,
везут, как кладь.
Крестьянские сани,
под соломой гроб —
везут тебя в деревню,
как колоду дров.
Подальше от столицы,
с глаз долой!..
Лежать тебе в мужицкой
в земле сырой!..»
Слова так печальны
и так просты.
Почти как причитанья.
Как плач почти.
КАРЬЕРЫ ЛИЦЕИСТОВ (Страницы дневника М. А. Корфа)
КАРЬЕРЫ ЛИЦЕИСТОВ (Страницы дневника М. А. Корфа)
Мальчики, сделавшие карьеру…
Что ж, приглядимся и к ним. К примеру,
«Модинька» — тайный советник Корф.
Жаль ему тех, кто с поры Лицея
верит, беззубея и лысея,
в детские бредни. Пустой восторг!
Братство до гроба! Союз до гроба!
Гроб?.. Но к нему далека дорога.
Каждый приходит к нему один.
Кем? Губернатором? Генералом?
Или всего только добрым малым,
то есть в ничтожестве до седин?
Кем-нибудь стал ты или не стал им?
С Анной? Владимиром? Станиславом?
В чине каком и женат на ком?
Стал ты чиновником образцовым
или беспутным и непутевым
оригиналом и чудаком?
Крутятся разные варианты
судеб. Несбывшиеся таланты…
И добросовестности триумф
в царствованье царя Николая:
царь, на мятежных гневом пылая,
труженикам воздает за труд.
Тот, кто достоин, достиг удачи.
Кто был пропащим, пропал. Тем паче —
тот, кто был жертвой пылких страстей.
Так Кюхельбекер погиб и Пущин.
А ведь дано было всем живущим
распорядиться жизнью своей.
Сорокалетний, на полдороге,
может уж Корф подводить итоги,
выслуженный пожинать успех.
Порассуждать, хоть с самим собою…
Богом? эпохой? царем? судьбою? —
выделен и вознесен, из всех.
Благополучен он в службе царской.
Благословил его сам Сперанский
(впрочем, старик уж не тот, что встарь!).
Царь его жалует. А отныне,
с нового года, он — на вершине,
он — государственный секретарь!
…Модинька! Жаль мне тебя, чинушу!
Все обретя, потерял ты душу.
Да и обрел ли ты что? Взгляни!
Те неудачники, те бедняги,
те, что чинов лишены и шпаги,
опередили тебя они!
“Смотри, сколь многого успел достичь…”
* * *
Смотри, сколь многого успел достичь
почтенный Николай Иваныч Гнедич!
Статский советник был и двадцать тыщ
оставил по себе наличных денег.
Он выкарабкался из нищеты
и ел на серебре, имел часы
и табакерки золотые, орден
с брильянтами. Но был угрюм и скорбен.
И неосуществленные мечты
тащил, как горб. Не старостью был сгорблен:
последекабрьский петербургский мрак,
сугубя невских тундр сырую стужу,
объял судьбу и службу, дом и душу.
«Душа, душа… (он жалуется так)…
Ты не могла…»
Лобанов, сослуживец,
с которым и Крылов, и Гнедич сжились
(а может, просто свыклись: жребий свел),
Лобанов, аккуратный их коллега,
душеприказчик Гнедича, нашел
отрывок этот, а спустя полвека
он был опубликован.
«…не могла…» —
тут Гнедич обессилел как-то сразу
и не докончил ни строку, ни фразу,
ни стих. Не смог. Такие вот дела.
А дальше были похороны. Был
февраль, и снег, и северное небо…
Потомок запорожцев, он любил —
свободу. Пылко. «Дико и свирепо»
(как пишет он о земляках своих).
А жил — в неволе. Не окончив стих,
он рухнул, задохнувшийся от крика:
«…Ты не могла!..» И замолчал. Затих.
А говорили, якобы от гриппа
он умер.
ЖИЗНЬ КРЫЛОВА
ЖИЗНЬ КРЫЛОВА
1. Дыра
Есть «молодой Крылов» и «дедушка Крылов».
Десятилетний между ними промежуток.
Не столь уж и велик разрыв, но чем-то жуток.
Безвременье. Дыра на рубеже веков.
Зло — это, в сущности, отсутствие добра,
как Августин учил. А стало быть, дыра —
не просто пустота, а гибель для живого.
Дыра. Историю она не прервала,
но уж Крылова-то пожрать она могла,
да что там говорить, не одного Крылова.
Крылов, по счастию, в той бездне не исчез.
Он пережил. Дожил. Дождался. Он воскрес.
«Дней Александровых прекрасное начало»
его к поэзии и к жизни возвращало.
Он славен. Вот его рисуют портретисты.
Вот в Павловском дворце он гость императрицы
Марии Федоровны. Ордена, чины.
Поэты чествуют его. Увлечены
им женщины (смотри записки Анны Керн).
Народ и светская его читает чернь…
И долго жил Крылов. Но все не забывал
десятилетний тот, зияющий провал.
Животик отрастил. Но чувствовал спиной
ту бездну черную, тот ужас ледяной.
2. И все-таки он был
14 декабря 1825 года
Крылов был на площади.
Свидетельства современников
И все-таки он был на площади в тот день.
До самых сумерек стоял в толпе людей.
Чего-то ждал. Чего? Он сам не знал, пожалуй.
Он с детства был такой: любил смотреть пожары,
а пугачевский, тот, что чуть его не сжег,
с отцом и с матерью, оставил в нем не шок,
а память праздника, ворвавшегося в будни.
(Он Пушкину потом о пугачевском бунте
будет рассказывать.) А в скучном Петербурге,
чуть только услыхав, что где-нибудь пожар,
он сломя голову по городу бежал,
пусть даже ночь-полночь, тотчас вскочив с постели.
Бежал и в этот раз. И вовремя поспели.
Народу собралось, наверно, тысяч сто
на этот не пожар, а неизвестно что,—
купцов, мастеровых, крестьян, простонародья…
Царь окачурился и выпустил поводья,
а новый не успел еще вскочить в седло.
Вот тут-то бы как раз коня и понесло!
Куда? Крылов-то знал (хоть был республиканец):
в России долго ждать республики покаместь.
А новый Пугачев (хоть не пугал его)
республики едва ль приблизит торжество.
Дай бог, грядущие дождутся поколенья.
И все ж он праздновал. Каменья и поленья
летели в царских слуг; того бревном в плечо,
того булыжником огрели горячо,
а самого царя — такими матюгами,
как ни один поэт не смог бы в эпиграмме.
(Он — мог. И о царе и о его дворе:
в шутотрагедии о Трумфе-немчуре.
Не напечатано, но все читали в списках.)
— Иван Андреевич! — кричали из каре
мятежники ему (он оказался близко).—
Вам надо уходить!… - Он понимал. Да, да.
Но повторится ли такое? Никогда.
Он должен досмотреть. Хотя конец уж ясен.
Вот артиллерия уж бьет. И снег уж красен
от крови, что ручьем струится, снег топя,
и стынет. Сумерки сгустились. А толпа
рассеялась. Крылов, наслушавшийся пушек,
чуть запоздав, пришел к Олениным покушать.
Весь вечер он молчал. Но и в другие дни
он не болтал, а ел. Привычные, они
и не расспрашивали. Сам он только Варе
поведал в двух словах о гаснущем пожаре.
К утру лишь слабый дым остался от огня
того единственного в длинной жизни дня.
Вновь будни начались. Лениво, как телеги,
унылые часы ползли, а не летели,
и было сумрачно в пустой библиотеке,
и Петербург в окне туманный леденел.
…И все-таки он был на площади в тот день.
СМЕРТЬ КРЫЛОВА
СМЕРТЬ КРЫЛОВА
Уже и Грибоедов был убит,
и Пушкин. Никого не оставалось.
Старик Крылов, нечесан и небрит
(как светская молва о нем твердит),
влачит свою безрадостную старость.
Крылов лежал (лежачего не бьют).
Не бунтовал (бунтовщиков казнили).
Валялся, не одет и не обут,
в постели, как в прижизненной могиле.
Он пережил царицу, двух царей
и только николаевского царствованья
не одолел: уже он стал старей
и ждать устал.
Когда-то юность яростная
сулила новый век, и этот век
вот-вот уже достигнет середины —
а впереди просвета нет и нет
(ну, прожил бы он восемьдесят лет —
чего дождался бы?), и ни единой
надежды: взгляд встречает тьму и тьму.
И, смиловавшись, смерть пришла к нему.
КЮХЕЛЬБЕКЕР В СИБИРИ
КЮХЕЛЬБЕКЕР В СИБИРИ
Снег стаял. Грело солнышко. Трава.
Долины, горы… Но в пустом просторе
он, как отрезанная голова,
жил: в физиологическом растворе
несуществующего вещества:
идей, идущих к узнику изгнанья
издалека, из тех столиц, где гул
культуры мировой звучит и полнит
пустынный космос плазмою сознанья.
И эту вот избу, где стол да стул.
Как мало книг! Но кое-что он помнит.
Он жив. Еще в нем разум не уснул.
Мозг бодрствует. Еще он не ослеп
и может поглощать насущный хлеб
четырехлетней давности журналов.
Он дважды, трижды ворошит запас
скудеющего чтенья, чтоб не гас
тот огонек, зажженный богом в нас
для мышления — не для слез и жалоб.
Еще раз Дмитриева перечтет
(а читывали с Дельвигом когда-то!).
И сам Жуковский вдруг ему пришлет
письмо — подумать только! — из Дармштадта.
С людьми бы побеседовать! Иных
уж нет, а те… Да, впрочем, он от них
отвык, от этой публики столичной.
Проезжий офицер, купец Черных,
тунгусский лама да казак станичный —
вот человечество. Хоть есть Гюго
и Гейне есть, но те — не для него.
А ведь и он был в Веймаре. И он
стоял пред Афродитой Гвидо Рени.
Корреджием пленялся. Авиньон
воочью видел. На вселенской сцене
Парижа выступив, имел успех.
И ни границ не ведал, ни помех.
Летал на крыльях. Вот Марсель. Вот Ницца…
А нынче— Баргузин, Аргунь, Онон,
а то, былое, разве что приснится.
Что ж, и во сне дух царствует. И сон —
вещ и крылат. Как мысль, как стих, как птица.
СОН
СОН
Он стал все чаще видеть мертвецов.
В ту ночь их было два: Крылов и Пушкин.
Еще живые оба, с непотухшим
и ясным взглядом,
стояли рядом,
совсем как их представил Чернецов,
порадовавший публику парадом
всех русских знаменитостей. Но он
картины той не видел. Видел — сон.
А сон переменился: перед ним
явился незабвенный Грибоедов…
Для будущих литературоведов
сон был бы ценен.
Как утл и тленен
облик умерших! Как неуловим!
Но к Кюхельбекеру слетелись тени,
и эта зыблющаяся толпа
не крышкой гроба — только крышкой лба
прикрыта. Все они — как наяву.
Меняются и движутся их лица.
И длится ночь, и длится, длится, длится
сон, кадр за кадром.
Вслед за Декартом —
«Я вижу их и, стало быть, живу» —
он может утверждать. Так пусть же снится
слепому свет. Пусть тянется та нить.
Всего-то год ему осталось жить.
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ И ИСКУССТВО
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ И ИСКУССТВО
Поэты Николаю не нужны.
Философы тем паче. Но искусство?
Нет. Об искусстве искони пекутся
все самодержцы. Даже если пусто
в казне, на это ли жалеть казны!
Он сам, жена, великие княжны,
а также элегантнейшие дамы,
министры и военные чины,
баталии, весь пышный блеск войны,
ландшафты вверенной ему страны —
должны быть кем-то изображены.
Да и столичные дворцы и храмы
прилично быть украшены должны.
Он сам — и рисовальщик, и гравер,
фортификатор, инженер, сапер
и — как его великий пращур Петр —
он, Николай, - строитель по натуре.
Своей опеки царственный шатер
над всеми он искусствами простер,
но склонность у него — к архитектуре.
Он сам рассматривает зодчих труд,
все их проекты. Он — их высший суд.
И все вершится лишь его решеньем.
Уж Росси — стар, устаревает он,
но есть другие: в русском стиле — Тон,
а в европейском стиле — Штакеншнейдер.
Царь — молодых талантов меценат.
Он Чернецову заказал «Парад»:
как Франца Крюгера «Парад в Берлине»,
но только на Царицыном лугу…
Ну, молодец Григорий! Не могу
сказать, чтобы как Крюгер, но вполне
он справился с картиной!.. На картине —
на вороном прекрасном скакуне —
царь, а немного в отдаленье — свита,
и, словно вытесаны из гранита,
немой громадой замерли войска:
ряды кавалерийского полка.
С художниками он — словно с детьми.
Но все они (как волка ни корми!) —
то просятся в далекие вояжи,
то пишут не парады, а пейзажи.
Одна надежда, что Зауэрвейд
поддержит в живописи жанр батальный.
А впрочем, отзыв заслужил похвальный
и пейзажист. Талант — феноменальный!
Им Севастопольский написан рейд.
Пусть все морские гавани и порты
напишет. Должен. Хоть живой, хоть мертвый.
Ваятелями он доволен. Клодт
фон Юргенсбург от рыцарей свой род
ведет, и, подлинно, воскрес в нем рыцарь.
Нигде в Европе нет таких коней,
как клодтовские. И куда там ей,
Европе, до России и Царей!
Лишь Царь — хранитель рыцарских традиций!
Однако он — не против новизны.
И жанры тоже разные нужны.
Кто хочет, пусть изобразит, к примеру,
купальщиц и купающихся нимф
и все, что полагается у них.
Витали, скажем, изваял Венеру,
вакханку Бруни написал, а Нефф
являет без покрова милых дев.
Милость монарха и монарший гнев —
единственный закон для живописца.
Для всех искусств. Но пусть спокойно спится
художникам! Ведь Царь — один. Как Бог.
И он, как Бог, готов свои щедроты
на всех излить. (На всех, в ком видит прок.)
А требует — лишь одного: работы.
Он не жалеет денег и чинов
и Высочайших милостивых слов
трудолюбивым, преданным, усердным,
достойным поощрения.
Таков
расцвет искусств при Николае Первом.
“А у невских берегов…”
* * *
А у невских берегов —
зябко, холодно, зима.
Глинка, Кукольник, Брюллов —
за бутылкою вина.
Одна бутылка на столе,
а две бутылки под столом.
Эх, побыть навеселе
да позабыть об остальном!
Один рисует царский двор,
другой муштрует царский хор,
а третий — царский драматист,
пока не кончится фавор.
С них не сводят зорких глаз
Бенкендорф и Николай.
Но сегодня, но сейчас —
вольным воля, пьяным рай!
Три пропащих, три раба
в царской службе-кабале…
Но сейчас им трын-трава
и бутылка на столе.
Сбросив фраки-сюртуки,
уж который час подряд
бражники и шутники
пьют и курят и острят.
Один рисует быстрый шарж,
другой играет бурный марш,
а третий в рифму сыплет сплошь,
когда все трое входят в раж.
И что им — высший свет и власть,
и фон барон, и граф, и князь!
Цыган или венгерец Лист
поймут их боль, тоску и страсть.
Как мужики вокруг костра,
вокруг артельного котла,
сидят-гуляют до утра.
Вот так и жизнь сгорит дотла.
Жребий каждому иной.
Все помрут, но в свой черед.
А пока что за стеной
зимней ночью вьюга вьет.
Только выйдешь — ветер в лоб.
В ледяном гробу — Нева…
Глинка, Кукольник, Брюллов —
за бутылкою вина.
КРАСНОЕ И СЕРОЕ (Петербургские повести)
КРАСНОЕ И СЕРОЕ (Петербургские повести)
Серенький тусклый колорит
тех живописцев-петербуржцев,
о коих Гоголь говорит:
не пышных, тихих, простодушных.
Окно, глядящее во двор,
где грязный водовоз льет воду,—
вот весь их грустный кругозор.
Вот мастерская: грязь и сор
и бедность, хоть беги из дому.
Вот их этюды по стенам:
бесцветный город и окрестность,
как будто сеется туман
и все окутывает серость.
Серенький тусклый колорит…
Но Гоголь (как, бывало, Брейгель)
вдруг киноварью норовит
ударить.
Как петуший гребень,
рубахи бедных рыбаков
над бледной полыхнут Невою
или бедняцкий красный гроб
глаз колет крайнею бедою.
И этот ярко-красный блик
так озарит сплошную серость,
что станет нестерпима вмиг
вся жизнь…
А столько лет терпелась!
ПЕРЕПИСКА
ПЕРЕПИСКА
Отец Александра Иванова,
Андрей Иванович,
так никогда и не побывал
в Италии.
Кроме Высочайшей на то
воли,
не было никакого средства:
«Я буду в Риме,
если это будет благоугодно
Ему».
Ему, то есть Николаю I
(а может быть, Богу, что. впрочем,
одно и то же),
так и не оказалось
благоугодно.
Отец и сын
переписывались.
Из писем Андрея Ивановича
можно узнать,
что Сережа учится с прилежанием,
но отдать его в Горный корпус
слишком дорого,
восемьсот рублей,
а всего наличного капитала
едва уже становится достаточно
за наем квартиры
и покупку дров;
что в Петербурге четыре скульптора
конкурируют на изображение
ангела с крестом
для памятника Александру I,
что в Академии господин Шебуев
пишет апофеоз Екатерине
по фальшивому мрамору,
что сам он, Андрей Иванович,
из Академии,
по монаршей немилости,
уволен,
однако ему заказан
Кабинетом Его Величества
иконостас для церкви
в новоприобретенных Россией
губерниях.
«Вот как, любезный Александр,
у нас дела совершаются:
всё по Высочайшему повелению».
В одном из писем
он добавляет,
что весьма любопытно было бы
видеть хотя бы портрет
Александра:
«Правда ли, что ты оброс
бакенбардами,
как покойный дядя?»
Александр Иванов
пишет отцу,
что климат в Италии легкий,
природа блестящая,
прелести Рима очаровательны,
фрукты дешевы,
холеры здесь пока что не ожидают,
но отрываться от дому родительского
скучно;
Александр говорит о слезах,
каплющих на сию бумагу,
уверяет, что только искусство
заставляет его пожертвовать
скорейшим свиданием,
и просит ходатайствовать
в Обществе поощрения художников
об отсрочке.
Несколько лет спустя
он уже сомневается,
будет ли он когда-либо
в Петербурге:
«Я себе это представляю
только в самом крайнем положении».
В Петербург, однако же,
Александр Иванов
вернулся,
следуя за своей картиной,
с которой не мог расстаться.
Здесь он провел
последние шесть недель
жизни.
«Вечером,— пишет он брату,
оставшемуся в Италии,—
ходили на Смоленское кладбище,
но не нашли
ни матушкиной, ни отцовской могилы».
Умер Александр Иванов
в Петербурге,
от холеры,
которой он, оказывается, опасался
вполне справедливо.
КАРТИНА
КАРТИНА
Отдаться, как монах монастырю,
картине. Десять лет. Пятнадцать. Двадцать…
Иной предложит: - Я вам смастерю
ein Meisterstück в два счета, стоит взяться.
И смастерит. Но двадцать лет пройдет -
и то, что изумляло блеском-лоском,
уже тускнеет. Даже в том, брюлловском
шедевре. Даже он уже не тот.
Лишь медленный и долгий-долгий труд -
надолго. Добросовестность, добротность
дают особенную прочность, плотность
и долговечность, длительность дают.
Приходят и уходят мастера.
Восходит солнце и заходит солнце.
Но эта вот картина - остается.
ФЕТ В КИРАСИРСКОМ ПОЛКУ
ФЕТ В КИРАСИРСКОМ ПОЛКУ
Фет вспоминает Елизаветград
и службу в армии. И, как ни странно, рад
подробностям. Не служба, а парад.
Не жизнь, а бал. А Фет — не то чтоб фат,
но любит флирт и сладкий аромат
букета женщин, музыки и танца.
Перелистнем записки наугад.
…Портрет красавца Листа — концертанта,
любимца публики… Вот в центре кадра —
красавцы кони… Вот красавец царь…
Вот царский смотр: сверкает медь и сталь
и скачет монумент царя-кентавра…
Фет—кирасир. Какая красота!
Он в каске с гребешком из конского хвоста.
Он в латах. О, любительницы ретро!
Вы только полюбуйтесь: Фет — корнет!..
…А воздух зноем пламенным прогрет,
и степью дышит дуновенье ветра.
Вот Фет танцует с будущей Вовчок.
Вот ездит конно с Бржеской (тсс! молчок!).
Вот он обрел и потерял Елену
(Марию Л.: «Елена» — криптоним)…
И то, чем жил он, то, что было с ним,
не в Лету кануло, а в Иппокрену.
К тому я и клоню: к тому, что Фет —
отчасти и украинский поэт,
и хоть в стихах почти что нет примет,
но где-то за стихами — Украина:
он там и танцевал, и гарцевал,
он там на чин майорский уповал,
он молод был, он счастлив там бывал —
не лучшая ли жизни половина?..
ЛЕТО 1845 ГОДА В СОКОЛОВЕ
ЛЕТО 1845 ГОДА В СОКОЛОВЕ
Чудные дни! А закаты—картинны и ярки.
Лето… Большая усадьба… Беседка Бельвю…
Лунные ночи в тургеневско-фетовском парке…
Липы цветущие… Ждешь только слова «Люблю!».
Но не дождешься. Рассказ тут совсем не об этом.
В парке, пленительном, как у Тургенева с Фетом,
бродят, гуляют, дыша этим липовым цветом,
Герцены вместе с Грановскими, Кетчер и Корш.
Гости из города выбрались под вечер летом.
Великолепное лето! И вечер — хорош.
Ящик шампанского. Спирт разбавляют водою.
Шумно и весело. Трапеза, смех и вино…
Все еще вместе. Все молоды. Радостей вволю.
Ясное, славное время… С тоской и любовью,
с завистью Герцен потом вспоминает его.
Сколько друзей и приезжих, идей и известий!
Сколько путей впереди! (Но, увы, уже врозь!)
Сил неизбитых!.. А главное, все еще вместе!..
Год-полтора — и появится мысль об отъезде:
братство — распалось, содружество —
поразбрелось! —
с горечью Герцен поймет. Но пока он— не знает…
Ах, как светло на душе у гостей и хозяев!
Как они дружно беседуют — эти и те!
Кажется, чувствует лишь петербуржец Панаев:
что-то кончается — каждый стоит на черте.
Что-то кончается. Кончится. Вот уже скоро.
Только подумать, остался какой-нибудь год
до расхожденья, размолвки, разлада, раскола
и до разлуки, что сросшихся их — разорвет!
Столь же талантливых, столь же сердечных
и чистых
Герцен не встретит нигде, ни в каком далеке.
Здесь монтаньяры не чают души в жирондистах.
Здесь атеисты и мистики — накоротке.
Все еще вместе. Какое счастливое время!
Светлого неба не застят еще облака.
«Кроме Белинского, я расходился со всеми»,—
скажет он позже. Но не разошелся пока.
Дальше — межа и предел. И отъезд из России
(«Мать, отпусти меня, дай побродить по горам!»).
Горы пустынные… Смертные бездны морские…
«Колокол»… Книга… Щемящая боль ностальгии.
И не вернуться уж, не поклониться гробам.
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» 1840-Х ГОДОВ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ» 1840-Х ГОДОВ
«Отечественные записки» умеренного либерала
Краевского. Не так-то много. Но, в сущности, не так уж мало.
Мы требовательны. Мы склонны к максимализму: «или – или».
Но ты представь себе те годы: как выдержали бы, как жили
люди без этого журнала, без этой малости, без этой
полемики (пусть полускрытой) против булгаринской газеты,
без этой фиги (пусть в кармане), без этой фразы (пусть туманной:
что цензор не уразумеет, поймет читатель постоянный),
без горькой лермонтовской «Думы», филантропических тенденций,
без новой повести французской, без философии немецкой!..
Журнал читают в Петербурге: двор и сама императрица,
чиновники и офицеры, купцы, значительные лица.
Семинаристы, разночинцы, бедные люди и плебеи,
отчаиваясь и мечтая, в журнале черпают идеи.
Его читает вся Россия (подписчиков четыре тыщи)
и в дальней ссылке Кюхельбекер, столь алчущий духовной пищи.
Жители Омска и Тобольска Жорж Занд и Диккенса в журнале
получат лишь немногим позже, чем лондонцы и парижане.
Ждут новых номеров студенты в библиотеках и кофейнях
(ведь на подписку у студента нет никаких, конечно, денег)…
Сороковые годы. Время споров, сомнений и вопросов.
Журнал, могло бы показаться, уж слишком робок, слишком розов.
Но нет, никто так не считает. И Рудины, и радикалы,
те, что потом готовы будут «к оружью» и на баррикады,
пока что жаждут мысли, мысли и той работы исполинской,
которой символ, свет и стимул – журнал и вождь его Белинский.
Журнал. К его «преступным мыслям» и «политическим намекам»
приковано вниманье многих, следящих неусыпным оком:
царь Николай, министр Уваров и все начальники и власти,
жандармы у Цепного моста, цепные псы различной масти,
доносчики (Фаддей Булгарин, Б.Федоров и иже с ними,
с фамилиями, с именами и аноним на анониме),
и прежних царствований старцы, что с нынешней эпохой в споре,
и послушники-москвитяне с митрополичьего подворья.
Журнал. И что они в нем видят? И чем их так пугают, право,
«Отечественные записки», двенадцать книжек ин-октаво?
Статьи, рецензии, заметки. Об электромагнитной силе.
О высочайшей в мире печи, что в Англии соорудили.
О паровозах, пароходах, успехах банковского дела,
ускоренном движенье жизни в жилах общественного тела:
«…движение дано, мир ныне не может уж остановиться…» –
так пишет госчподин Башуцкий (с уверенностью тайновидца!).
«…не может уж остановиться…будет идти вперед…» (Ведь верно!
Выходит, старые журналы перечитать порой не вредно!)
«Отечественные записки» (двенадцать книжек ин-октаво) –
вот двигатель, что движет время к отмене крепостного права.
Приспособленье силы пара к движенью на воде и суше –
проблема важная. Но важен и двигатель, что движет души.
Он впрямь колеблет все основы и, хочет кто или не хочет,
Подтачивает прочность трона. Как капля. Та, что камень точит.
1848 ГОД В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
1848 ГОД В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Утро. Вышел курьер из дворца. Он молчанье хранит.
Он недобрые вести царю из Берлина привез.
Государыне дали лавровые капли и аконит.
Врач при ней. С сердцем плохо. Лицо подурнело от слез.
- Ах, мой брат! - она плачет. - Молчите! Он тряпка и трус! -
Николай обрывает. - И вся эта ваша родня -
лишь трухлявая гниль! На кого я теперь обопрусь?
Вся Европа трещит, и обрушилось все на меня!
Как мой брат Александр, содержавший в тяжелые дни
ваших нищих бездомных родителей, живших в Мемеле, как голытьба,
так и я был кормильцем бесчисленной вашей родни:
сколько денег я дал им взаймы! сколько было возни!
и какой же теперь благодарностью платят они!
Тесть как тесть был, но шурин! - пошлет же такого судьба!..
Николай задыхается. Он же от ярости пьян.
Надо взять себя в руки. При чем тут бедняжка жена!
Он пойдет на врагов. У него в голове уже план.
Он покажет им всем - якобинцам всех наций, всех стран!
Он до Рейна дойдет! До Парижа! Как в те времена!
Как тогда - он представил - в четырнадцатом году:
…Мы с Мишелем в Париже!..А мать не хотела пускать…
А дошли до Парижа!.. И я теперь тоже дойду!..
Пусть один…Пусть берлинец, подлец, отсидится в кустах!..
Или даже, орудием став одуревшей толпы,
пусть войну мне объявит! - ну что ж, он получит войну!..
Брат мой Фриц!.. Ну, так что же? когда же ты двинешь полки?..
Кто еще? Вся Германия? Может, и Франция? Ну?..
Триста семьдесят тысяч мы выставить можем к весне.
Если нужно, и больше. Паскевич тряхнет стариной.
Грудью против анархии! Выстоим в этой войне!
Вы сильны на словах, но попробуйте в деле со мной!..
Нет. Нельзя рисковать. Он один. Совершенно один.
Уберечь бы Россию! Спасти от крамолы и смут!..
Пусть попробуют сунуться - тут уж мы им зададим!..
Неужели зараза появится скоро и тут?..
Неужели права та гадалка, мадам Ленорман:
Александр, Николай, а потом - только дым и туман?..
Неужели конец всей династии, царству, всему.
Оттого что Европа опять начала кутерьму?..
Он задушит все замыслы. Пушками чернь усмирит…
Запретит философию, говорунов истребя…
Всех там Гете и Шиллеров (тот безбожник, а этот бандит),
всех он их успокоит!.. Но как успокоить себя?
Вся Европа бушует в его голове и в ушах.
Франкфурт, Лейпциг, Берлин -
всюду “Freiheit! - кричат. - Bruderschaft!”
“Vive la France! - горлопанят в Париже. - Vive la Republique!”
Будто в Зимнем дворце этот наглый разносится крик.
…Утро. Вышел курьер из дворца. У него на лице
ничего не прочтешь. Он безмолвен, как глухонемой…
Тихо-тихо…Весь город как вымер…Лишь в Зимнем дворце
гул по залам идет, будто бьется о скалы прибой.
В БОЛЬНИЦЕ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
В БОЛЬНИЦЕ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
В больнице Всех Скорбящих
кончается Федотов,
пленительный рассказчик
печальных анекдотов.
Лишившийся рассудка,
он чертит, умирая,
себя — в углу рисунка,
а в центре — Николая.
Царь — центр, и на бумаге
другим фигуркам тесно…
Федотову, бедняге,
нет в Петербурге места.
На чердаке ль под крышей,
под лестницей в чулане,
он — как чужой, как пришлый…
Чего не сочиняли:
мол, петербургский Хогарт,
мол, чуть ли не голландец…
И лишь в одно не могут
поверить: в гениальность.
Мол, эта вот манера —
от Стена и Теньера,
а этот выпивоха —
из Питера де Хоха.
Из Питера, вы правы,
из питерского люда.
И офицер тот бравый —
из Питера, отсюда.
Купцы, кухарки, няньки
в десятках эпизодов.
Шарманщик с обезьянкой
и гробовщик Изотов.
И этот грустный снимок
озябших и продрогших
(ведь петербургский климат —
отнюдь не из хороших!).
Чиновник и сенатор.
Извозчик и квартальный…
А подсмотрел их автор
чуть-чуть сентиментальный.
Чуть-чуть сентиментальный
и потому — детальный.
Детали каждой сцены,
вплоть до любой булавки,
сверкают, драгоценны,
как в антикварной лавке.
В его миниатюрном,
чуть иллюзорном мире
любовь, лиризм и юмор
всю низость озарили.
Действительность — бредова,
ей Босха бы иль Гойю.
А он — влюблен в Брюллова.
Он с гоголевской болью
глядит на грязь и мерзость,
на язвы, но — художник,
а не хирург, и резать
ножом он их не может.
Действительность— гротескна,
уродлива, ужасна.
И громкий крик протеста
вот-вот уже раздастся.
А царь — умрет от яда…
Но не спеши, не надо
предвосхищать событий…
Пока что, в бездне ада,
Федотов гаснет светлый.
И крик его — предсмертный,
поприщинский: «Спасите!»
“По резолюции Николая…”
* * *
По резолюции Николая
Тургенев месяц сидит на съезжей
и, наказание отбывая,
смеется, шутит, веселый, свежий.
С ним пьет шампанское частный пристав,
друзья из дому несут обеды…
А петрашевцев, а декабристов -
тех не такие постигли беды.
Что ж изменилось в царе-жандарме?
Быть может, начал добреть с годами?
Нет, он все тот же! И в легком жанре
он тот же деспот, что в мрачной драме.
ГЕРЦЕН В ИЗГНАНИИ
ГЕРЦЕН В ИЗГНАНИИ
Черные избы на белом снегу…
Сумрачный ельник вдали за селом…
Все это где-то на том берегу:
в тридцать шестом или в сорок седьмом.
Все это было: луга и леса,
эта лесная высокая тишь…
Выйдешь — окрестность откроется вся,
вид на Звенигород… нет, на Париж!
Герцен — в изгнании. Что за места!
Вся-то Европа — ухоженный парк.
Но не прельщает его красота
геометрическая, как Декарт.
Море и горы, лазурь и тепло —
что ж ему нужно еще? Почему
мечется он, все не так и не то,
не по душе ему, не по нему?
Сны: дикий паводок сносит мосты,
дерево вырвал и с корнем унес…
и, фиолетова до черноты,
грязь — по колено, по оси колес…
ряд почернелых бревенчатых изб…
дым от овинов и песня вдали…
Рабство, безропотность и деспотизм…
Дикость печальной и бедной земли…
Может ли он предрекать рождество
нового в этой России рабов?
Доводов разума — ни одного.
Разве что вера, надежда, любовь.
Разве что ненависть, слезы и желчь.
Разве что Разин и Петр-богатырь.
Разве что воображаемый меч
пушкинских строк из «Посланья в Сибирь».
Разве что вече, община, артель.
Разве что древние Новгород-Псков.
Разве что жизнь: этот вечный Протей —
вечно и непредсказуемо нов.
Жизнь! Новизна! Зародись и расти!
Взбейся ростком из земли, из зерна!
Будущность, если ты есть для Руси,
будь же, приблизь же твои времена!
В будущее — как Колумб в океан:
есть ли там что или нет ничего?
Или страну Николай доконал?
Или пора начинать начерно?
Нищая Русь — не до курицы в щах.
Да. Но Европе — Ее предпочтет,
сытой, мещанской, погрязшей в вещах,
обожествляющей счет и расчет.
Герцен в изгнании. Жизнь уж прошла.
Столько ударов и столько утрат.
Да, но душа сожжена не дотла —
рвется вперед, возвращаясь назад.
И на уме, и во сне, и в бреду,
в думах о будущем и о былом —
черные избы на белом снегу…
сумрачный ельник вдали за селом…
“Били в армии, в школе, в столице, в селе…”
* * *
Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную…
Били в армии, в школе, в столице, в селе,
били лошадь в конюшне и сына в семье,
били умных: не умничай! – и дураков:
если бить дурака, может, будет толков.
Вся Россия под палкой жила, под кнутом.
Но поэты писали совсем не о том.
А Некрасов придет лишь полвека спустя,
на исходе той страшной эпохи битья .
1856 ГОД
1856 ГОД
Век движется то под гору, то в гору,
то еле-еле, шагом, то рысцой…
И вдруг с такой помчится быстротой,
как никогда. И скажет Лев Толстой,
что кто не жил в России в эту пору,
не знает, что такое жизнь.
Страна,
предчувствуя иные времена,
от Николая год назад избавясь,
зашевелилась, мощная на зависть,
как богатырь, что сиднем тридцать лет
сидел, но вставши — все преодолеет.
Дай бог!.. Светает. Чуть забрезжил свет.
Точнее скажем, тьма чуть-чуть редеет.
Едва лишь обрядили мертвеца,
едва черты свинцового лица
застыли, и из Зимнего дворца
торжественно перевезли в собор
уже смердевший труп, как началось
новое время. Каждый, вкривь и вкось,
толкует, судит. Кто болтает вздор,
кто размышляет. Ожили столицы,
не только Петербург — уж и Москва.
Люди осмелились разговориться.
И начались — слова, слова, слова.
Слова, каких доселе не бывало,
звучат: «цивилизация», «прогресс».
Что Николай сказал бы! Но не стало
его, и тут же всякий страх исчез.
Никто (как пишет в дневнике В. С.
Аксакова, сестра славянофилов)
не пожелал бы, чтобы он воскрес.
Россия больше уж была не в силах
его терпеть.
В людей вселился бес:
шум, говор, суета, обеды, тосты.
Все лица веселы (а были постны).
Смеются, шутят… Даже при дворе,
где в струнку все ходили при царе,
у фрейлин и у кавалеров свиты
теперь уж страха нет. Тот ледовитый,
гипнотизирующий, страшный взгляд
не пригвоздит их к месту. Норовят
в свободных и непринужденных позах
сидеть при их величествах! А царь —
глядит, но не одернет их, как встарь.
А в городе — и вовсе праздник. Воздух —
весенний! И живое существо
всей грудью, радостно вдохнуть его
естественно же хочет!..
Светлый год!
В журналах — новости по части мод.
Но тут же — новости совсем иные:
в «Губернских очерках» Н. Щедрина
читает изумленная страна
о «прошлых временах» дела такие,
о коих до сих пор… А сам-то он,
их автор, только-только возвращен
С. С. Ланским из злополучной Вятки.
И уж вовсю бичует недостатки
недавних — но уже былых — времен.
Да что Щедрин! Уже не только он —
юнцы о «старом» говорят «порядке»,
«L’ancien regime et la revolution»
Токвиля прочитав (в оригинале;
но скоро явится и перевод).
Неповторимый, незабвенный год!
Эпоха предвкушения свобод.
В дворянстве — либерал на либерале.
Всеобщее желанье перемен.
… —И даже сам великий князь К. Н.!
— И даже царь! Да! да! Передавали:
он тоже! Да! Правительство полно
благих намерений — нужны лишь люди:
свежие, честные… — А повесть «Рудин»
читали? — Да! И в этом же журнале —
поэма «Саша». И посвящено
И. Т.: Тургеневу! — Я так и понял. Но
поэма — что! И книгу ведь издали!
Некрасовскую. Ну и времена!
Не хлеще ли он даже Щедрина?
«Забытая деревня»: «старый барин» —
ведь это ж Николай! А «новый»…— Нет!
Не думаю! Царь — добр и либерален.
Некрасов не имел его в виду…
—Вы в клуб идете? — Да, я в клуб иду.
—А слышали, в Москве какой обед
устроили? Ну, матушка Расея!..
И в честь амнистии и милосердья
монаршего — речь Павлов произнес…
—Да, бедные страдальцы! Жаль до слез!
Но, говорят, довольно моложавы
вернувшиеся! В пользу им мороз
сибирский был, и дожили до славы!..
—А слышали, затронут был вопрос…
—Суда? Цензуры? — Нет, освобожденья
крестьян!..
Счастливый год! Остановись, мгновенье!
Застыньте все как есть!.. Уже лет через пять
уйдут: одни — вперед, другие — вспять…
И с удивленьем будут вспоминать
свой либеральный пыл, ребячество, речистость
жрецы реакции лет через двадцать — тридцать
“Есть добрая, есть и дурная слава…”
* * *
Есть добрая, есть и дурная слава.
Вы прокляты вовеки, старики,
стоявшие, рассудку вопреки,
против отмены крепостного права!
НИКИТЕНКО
НИКИТЕНКО
— «Дневник» Никитенки читаете? Кладезь!
Почтенная летопись! Тыща пятьсот
страниц! А представьте, мы вдруг оказались
без этих подробностей — сколько пустот
зияло бы там, где сияют цитаты
у наших историков, если б «Дневник»
пропал! Сколько б книг обесцветилось вмиг!
Какие бы в них обнажились утраты!
Да, да! Но, вы знаете, больше всего
мне было бы жалко утратить — его!..
Он ценит упорство, талант и характер.
Вот Линкольн, что был дровосеком. Вот Франклин,
что был типографщиком. Джонсон, портной,
что стал президентом. Вот граф Евдокимов,
что писарем был. Вот он сам, крепостной,
что тайным советником стал…
Но, покинув
крестьянскую хату, в столичных гостиных
вороной, втесавшейся в стаю павлинов,
он видит себя. Украиной родной
он грезит. В столице живет, как в темнице
холодной и мокрой, в темнице сырой.
Да он ведь давно уж на волю отпущен!
Нет. В рабстве себя ощущает. В гнетущем.
Всеобщем. Висящем над целой страной.
Всесильны Правительство и Провиденье.
А люди как рыбы молчат. Как рабы.
Но образ прикованного Прометея:
Поэзии, в ржавых цепях и в крови,—
на первой же лекции, вот этот образ!—
трагический, да, но вселяющий бодрость.
Народ, что веками был ниже травы,
незримо стоит за спиной Никитенки.
Пусть он не поклонник Емельки и Стеньки,
но все же казак. И упрямый как вол.
И сам Николай не припрет его к стенке.
Он выдюжит. Был Николай, да прошел.
И век деспотизма пройдет. Пусть не сразу.
Пусть даже вступает он в новую фазу,
но минет, исчезнет, пройдет. А пока
старик повторяет любимую фразу:
мол, все перемелется — будет мука.
Он верит в российскую будущность, ибо
народ перетерпит и перенесет
все: барское иго и царское иго,
ярмо нищеты и помещичий гнет.
«Терпенье и мужество» — вот его кредо.
Но что-то в нем есть от сапожника-деда,
который был трезвый и тих и смирен,
тачал знай то чоботы, то черевики,
но выпивши дед был ругатель великий,
шумел, бушевал и хотел перемен.
Профессор и цензор, уставший томиться
весь день, перед сном за дневник свой садится
и, дав себе волю, как выпивший дед,
клянет и реакцию, и мракобесье…
Дневник возвращает ему равновесье.
А утром ему — в комитет и в совет.
МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ
МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ
Всю ночь шли через мост войска
с того, обугленного берега,
из ада…
Как же далека
война!.. Он — жив. Из дневника:
«Я в Петербурге у Тургенева».
Толстой — в столице. Жив и цел.
Он пишет «Севастополь в августе».
Он видит груды мертвых тел
и всю войну в ее кровавости.
Уж он покажет без прикрас
и страшный Крым, и то, кавказское…
А Муравьев как раз взял Каре —
и в Петербурге пьют шампанское.
Весной скончался Николай
(покончил ли с собой, бог ведает),
и хоть никто не ликовал,
но и никто о нем не сетует.
Война окончилась. И мир
страницу открывает светлую…
А сам Толстой — дикарь, но мил.
А сабля — с Аннинскою лентою.
Балы. И дамы декольте.
Все — высший свет, все — лучше лучшего.
— Ах, граф! Не вы ли — Л. Н. Т.?
Я слышала о вас от Тютчева!
Он — у Донона, у Дюссо,
он — в клубе, он в воксале в Павловске.
Такой веселый, lebensfroh,
такой сердечный, мягкий, ласковый.
Но вспыхнет вдруг — и не щадит
своих литературных менторов.
Он независим, горд и дик,
неприручаемый — как Лермонтов.
Он чует фальшь красивых фраз,
фальшь литераторства, ораторства…
(Неужто жизнь — лишь глупый фарс?)
Он всем дерзит. Он спорит яростно.
Он всматривается в нутро
людей: что в них подспудно движется?
Подозревает в них не то,
чем кажутся они и пыжатся.
Он правды требует — прямой.
Он, подставлявший грудь под выстрелы,
пришел с суровой простотой
и с проповедью: будьте искренни!
С кем он, взыскующий? Ни с кем.
В тиски прокрустовы не втиснутый,
чуждающийся всяких схем,
послушный лишь инстинкту истины,—
таков он, молодой Толстой.
Сам по себе. Во всем — по-своему.
И эта сила — быть собой —
предвозвещает торжество ему.
ЧАЙ
ЧАЙ
Столпы литературы пили чай,
собравшись у Панаевой Авдотьи.
Бранили цензоров или печать,
топтались, как пловцы на мелководье,
на мелочах. Ну, словом, пили чай.
Что было к чаю, не моя печаль,
какое там варенье и печенье.
Хоть знаю, что литературный быт
(как Эйхенбаум где-то говорит)
тоже заслуживает изученья,
но с этим обращайтесь не ко мне.
Беседа шла застольная вполне,
не столько содержанье, сколько форма.
На остряков нашел веселый стих,
шутили, спорили…
Но что-то их
лишало ощущения комфорта,
мешало быть довольными собой.
Не что, а кто. Работал за стеной
тот человек, сутулый, желчный, злой,
вождь и надежда самых крайних красных.
Ему давно потворствует Некрасов
(да и Панаев тоже; вот чудной!).
Он пишет там какую-то статью,
а может, просто правит корректуру.
Он влез в журнал, вошел в литературу.
Кутейник! Жрал бы знай свою кутью!
Попович! Дурно пахнущий плебей!
Природный враг порядочных людей!
А в этой диссертации своей…
Такого еще не было доселе!
Ему — что Пушкины, что Рафаэли,
печной горшок дороже. Он готов
их всех, людей сороковых годов,
списать в архив, похоронить, похерить!
А молодежь, отвергнув стариков,
ему, ему во всем готова верить!..
А старикам-то — сорок, сорок пять,
а некоторым сорока-то нету.
А их торопят место уступать
для новых. А признаться по секрету,
ох и не хочется! И то сказать,
таких по всей Европе поискать,
не только что в России. Даровиты.
Аристократы духа. Эрудиты.
Да, барственны чуть-чуть. Да, сибариты,
гуляки праздные, говоруны
и даже, может быть, чуть-чуть фразеры.
Но неужели все их разговоры
пропали даром, были не нужны?
Дел не было? Какие же дела
могли бы быть? Страна еще была
не подготовлена. А кто готовил?
Кто нынешних, кто новых обусловил?
Белинский? То-то. А Белинский кем,
не дружеским ли был воспитан кругом?
Не ими ли (как все они друг другом)
рос? И не им ли он обязан всем?
А Искандер? Кого еще вам надо?
А их теперь — в отставку, на покой?
Похоронить, похерить?.. Нет, постой!..
Тот человек работал за стеной.
А здесь — как бы нарочно, для парада —
в одной квартире, в комнате одной
вокруг стола сидела вся плеяда
сороковых годов. Кого тут нет!
Тончайшей прозы виртуоз, поэт,
красавец и с иголочки одет,
салонов и читательниц отрада,
Тургенев был. Не отводить бы взгляда,
но рядом — Григорович… Самый цвет
литературы. Групповой портрет.
Добрейший Анненков, пушкиновед.
Василий Боткин, истинный эстет
(в миру — глава чаеторговой фирмы),
он любит сладость жизни: ананас
и ранний итальянский Ренессанс,
и запах роз, и Фета стих эфирный,
и всякий бургиньон и шампиньон.
Был, собственным успехом опьянен,
джентльмен Дружинин, переводчик «Лира».
Панаев был, всеобщий компаньон
(да это ж, собственно, его квартира).
Ну, и Некрасов был, хозяин пира
(как в «Пире» у Платона — Агафон).
Некрасов и Панаев принимали
гостей. Но в этом доме, как в журнале,
все — у себя. Ведь все давно свои.
И общие обеды и чаи
привычны, как… тоска об идеале.
Тот человек работал за стеной.
Свой идеал осуществлял. Иной,
чем их, чем то, о чем они мечтали.
Теперь мы знаем все, кто он такой.
Пророк. Апостол. Мученик. Святой.
«Его послал бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе»,—
Некрасов скажет про него.
Но те,
что пили чай, ничуть не замечали,
что человек, который за стеной,—
пророк, святой.
Мешала им — стена.
Так резко изменились времена.
На сцену вышли люди, о которых
помину не было. И вся страна
распалась надвое в жестоких спорах.
Тот человек, чьи резкие статьи
так любит молодежь как раз за резкость,
уж скоро будет — года через три —
посажен в Петропавловскую крепость.
Им, пьющим чай, сидеть вокруг стола
за чаем, за вином или за кофе.
Пророку — у позорного столба
стоять на площади, как на Голгофе.
Ему — неправый суд и каземат,
цинга и холод, каторга и ссылка.
Но нет идущему пути назад,
а тем, кто не пошел, пусть будет стыдно.
Он выдержит. Из самых мрачных мест
вернется. Все уже поумирали.
Он жив. Еще дано ему прочесть
Авдотьи Яковлевны мемуары.
Перечитать еще раз. Помолчать,
припоминая времена былые.
И грустно улыбнуться: «…пили чай…»!
Ну, молодец она! Все — как живые!
КЛЕЙНМИХЕЛЬ
КЛЕЙНМИХЕЛЬ
— Папаша, кто строил эту дорогу?
— Граф Петр Андреич Клейнми-
хель, душенька.
Некрасов. Эпиграф к поэме «Желез-
ная дорога»
Клейнмихель после смерти Николая
все жил и жил, никак не умирая.
Жил лет пятнадцать. Пережил жену.
И с ужасом глядел, не понимая,
на обновляющуюся страну.
Журналов и газет он не читал,
но знал и так: писаки стали наглы.
Некрасов на него наклеветал,
а ведь Некрасов — чуть ли что не главный.
На улицах он видел: молодежь
длинноволоса сплошь и бородата.
Учены чересчур. Ума палата.
Все — умники. Усердных — не найдешь.
А он — усердным был. Не уставал
служить царю. Проделал труд немалый.
Плотины строил. Проводил каналы:
Онежский, Белозерский… Создавал
водохранилища, мосты, дороги.
Он расчищал днепровские пороги.
Любые трудности — одолевал.
Послушать если слухов и молвы
или Некрасова с его стихами,
то путь от Петербурга до Москвы
он сплошь устлал, как шпалами, телами.
Да, не жалел себя, но и людей.
Железная дорога? Да, на ней,
случалось, мерли: тиф и лихорадка.
Пусть так. Но что касается порядка,
порядок был.
Теперь он — «зверь», «злодей»
(с тех пор, как не у дел!). Теперь кто хошь
его ругает, устно и печатно,
из тех, кто вхож к нему был и не вхож.
Кто руку лобызал, бранит нещадно.
А прежде было: приезжали все
ко всенощной в его домашней церкви
и — в карты на всю ночь… И в том числе —
граф А., граф Б.!.. Все позабыли, черти!..
Он ходит в Государственный совет,
сидит и хмурится, не возражая.
Россия вся — какая-то чужая.
С кем душу отвести? Нет близких, нет!
Он ездит летом на воды в Карлсбад,
где прежних лет служаки отставные
ворчат-брюзжат, как плохо стало ныне,
и рассуждают вслух, кто виноват.
Кто виноват? Во многом — Александр.
Слабохарактерен и либерален.
Однако ж мы царей не выбираем.
Он долго будет царствовать: не стар.
А может быть, и не его вина?
И не Елены, и не Константина?
А просто уж такие времена?
Но где начало их? И в чем причина?
И вдруг пришло Клейнмихелю на ум:
железные дороги — вот в чем корень!
С них началось! Как раньше он не понял!
А помнится, ведь кто-то намекнул:
мол, нечего спешить, мол, бес-прогресс
как раз и проникает в форме пара,
и если он в империю пролез —
конец империи, пиши пропало!
Соединив Москву и Петербург,
не видел Николай (и он не видел!):
не поезда по рельсам побегут,
а бес-прогресс, монархии погибель!
И путь от Петербурга до Москвы —
теперь Клейнмихель видит — только средство
(как все шоссе, каналы и мосты)
к увеличенью скорости прогресса.
…Прогресс шел не по дням, а по часам.
А он, реформ и перемен хулитель,
рвал и метал: ведь виноват он сам!
Он сам! Клейнмихель виноват! Клейнмихель!
“«Не нужно осуждать железные дороги!»…”
* * *
«Не нужно осуждать железные дороги!» —
так Тютчев убеждал — друзей, жену, себя…
Пусть время — новое, пусть молодые строги
к нему как старику, но он им — не судья!
“Четыре станции им было по пути…”
* * *
Четыре станции им было по пути —
и по железной и по жизненной дороге,
им посчастливилось друг с другом провести
часа четыре во взаимном разговоре,
Толстому с Тютчевым. Потом Толстой сошел
на станции своей, не доезжая Тулы…
И лишь в истории родной литературы
вновь встретятся они. В том космосе большом.
САЛТЫКОВ И ЩЕДРИН
САЛТЫКОВ И ЩЕДРИН
Как жизнь вести одну
двоим под общим кровом —
смутьяну Щедрину
с почтенным Салтыковым?
За что им этот ад —
в одном ютиться теле?
Грызясь, как с братом брат:
живьем друг друга б съели!
Тот прет против рожна
и всех властей в России,
у этого — жена
и слабости людские.
Тот делает добро
и правду-матку режет,
а этот — пьет бордо
и вкус гурманский тешит.
Тот с золотым шитьем
мундир казенный носит,
а этот — с кистенем,
вот-вот и бомбу бросит.
Тот — в шелковых чулках
и в лаковых штиблетах,
в лицее как-никак
он в лучших был поэтах.
А этому — чулки
отвратны щегольские
и всякие стишки,
свои или чужие.
Сиамских близнецов
пожизненно сращенье:
Щедрин и Салтыков,
ведущие сраженье.
Но оба уж они
равно больны и стары,
терзают их одни
кишечные катары.
Один у них бронхит
(хоть двуразделен дух в них),
одна ступня болит,
одно колено пухнет.
И смерть объединит
их на одре обоих
и вместе их двоих
во гробе упокоит.
ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ ГОРОДА ГЛУПОВА
ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ ГОРОДА ГЛУПОВА
Градоначальники города Глупова
длинной чредою, друг друга сменяя,
движутся, как карнавальные пугала,
на всенародное их осмеянье.
Сколько их тут! Великаны и карлики,
тучный и тощий, урод и болванчик…
Где мы? В кунсткамере? Или на ярмарке,
где их показывает балаганщик?
То ли страшилища? То ли посмешища?
В масленичном маскараде? В кошмаре?..
Русь монархическая и помещичья
кажет свои богомерзкие хари.
Замухоморенный лес мифологии
их породил? Этот лес худородный,
где замуравели и заколодели
к будущему все пути и дороги?
Где, на корягу присев иль на камушек,
в чаще чудовищного чертолесья
Баба Яга пожирает Иванушек
вот уж которое тысячелетье?
Где на заросшей бурьяном обочине
жизни, грохочущей паровиками,
в царской, боярской, помещичьей вотчине
горбится чернь. Как всегда. Как веками.
Чернь, что мордована, пугана, пытана
и заморочена так, что готова
в звере узреть генерала Топтыгина
и убежать, оробев, от такого.
Царь, губернаторы и городничие,
частные приставы, городовые —
многоголовые Змеи Горынычи.
Где ж богатырь? Ни Ильи, ни Добрыни.
Люди, прозрейте! Неужто и нынешний
день не подарит вам ясного зренья?
Люди! Чудовищный мир этот — вымерший!
Тень! Невещественное наважденье!
Вымерший он! Он лишь тужится, силится
быть. Он давно уж безжизнен, как призрак:
призрак царя ли Ивана Васильича
или того, кто казнил декабристов,
Пушкина мучил, сослал Петрашевского
и лютовал над страною лет тридцать…
Ох, эта непроходящесть прошедшего,
цепкость его и зубастость и хитрость!
«ЩЕДРИН В ЛЕСУ РЕАКЦИИ»
«ЩЕДРИН В ЛЕСУ РЕАКЦИИ»
«Щедрин в лесу реакции». Удав
свисает с дерева. Глазастый сыщик
глядит из-за куста. Стоглаз, стоглав
мрак — мощный, хищный, множащийся
в тыщах
чудовищ, плодовит, неистощим
в метаморфозах.
Этаких и в Брэме
не выищешь! Да стольких чертовщин
и Афанасьев в трех томах «Воззрений»
(все суеверья вроде бы учтя
славян-язычников во время оно)
не насчитал!
Сгущенная мечта
тьмы.
Вот, почти неотличим от фона,
маячит меж деревьями жандарм,
недооформленный, но в треуголке.
И, кроме прежних, тех, каких рождал
лес издавна (ну, там медведи, волки),—
невиданного здесь полно зверья,
какого нет и в сказках про Кощея.
Вот торжествующая сверхсвинья,
на Щедрина клыки свои ощеря…
Д. Н. Брызгалов и Н. П. Орлов,
поклонники писателя, всех разом
изобразили здесь его врагов,
весь мрак и противостоящий разум.
Щедрин поставлен в центре. Как святой.
И смысл всей композиции — простой:
как мрак ни бесится, как зло ни злится
(Победоносцев и Д. А. Толстой,
Катков, Суворин и другие лица),
но впереди — означился просвет…
И Щедрину — понравился портрет
(как он писал Орлову в то же лето).
Один он дал художникам совет:
просвет, конечно, нужен, спору нет,
но дальше, по ту сторону просвета,
добавьте новых гадов: ведь они
имеются всегда не только сзади —
и впереди. Сидят и ждут в засаде
идущего. Да вон они, взгляни!..
А впрочем, был признателен и рад.
Благодарил за дорогой подарок.
И впредь не отступал, не шел назад,
ни новых гадов не страшась, ни старых.
ПРОВИНЦИЯ 1880-х ГОДОВ
ПРОВИНЦИЯ 1880-х ГОДОВ
300 купеческих лавок,
3 повивальных бабки,
а кабаков — 110,
полных пьяни кабацкой.
Но в городе этом безвестном,
в городе провинциальном,
учится мальчик в уездном,
учится парень в реальном.
Учится парень в реальном —
мечтает о нереальном.
В России — Победоносцев.
Дожить бы до девяностых…
“Старый земский статистик…”
* * *
Старый земский статистик,
увлекавшийся мистикой чисел,
размышлял,
но нигде ничего не домыслил,
не занизил и не завысил.
Правда, пифагорейскую ересь
исповедовал он втихомолку,
но всю жизнь
пропадал этот пифагореец
на периферии,
далеко и подолгу.
Он на скрипке играл.
Он стихи сочинял на досуге.
Никогда он не врал,
как, бывало, попы или судьи.
ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО
ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО
И все-таки — спасибо передвижничеству,
с его тяжелой, как вериги, живописью
и аскетичной серостью-коричневостью,
и постнической самоограниченностью,
с тенденциозностью и назидательностью
и тыкающей пальцем указательностью,
с шестидесятническими иллюзиями,
с несчастненькими, паче всех излюбленными,
с глаголющими истину юродивыми
и высмеянными их благородиями.
Да, все-таки спасибо передвижничеству,
с его святой правдивостью и жизненностью,
писавшему Россию неприкрашенную,
крестьянско-арестантско-ссыльно-каторжную,
не отворачивая глаз от правдашнего:
порожняки да погорельцы Прянишникова,
перовские утопленницы, похороны,
лохмотья, лапти, чучела гороховые,
трущобы — грязные, ибо доподлинные,
каморки и обои в них ободранные
и умирающие в них чахоточные
художники, все чудаки да чокнутые.
Спасибо странничеству-передвижничеству,
из стен столичных в путь-дорогу вышедшему,
туда, где за саврасовскими кривенькими
березками худыми, некрасивенькими
просторы открываются немереные:
степные — южные, лесные — северные,
речки, церквушки, деревеньки серенькие,
вот-вот уж блоковские и есенинские…
Спасибо передвижничеству-странничеству,
но трижды — передвижничеству-праведничеству,
продолжить или возродить старавшемуся
в художниках артельный дух товарищества,
дух братства, честности и добросовестности…
За все, за все спасибо. Но в особенности —
за нас самих спасибо передвижничеству,
в нас длившемуся, длящемуся, выжившему,
не яркому, как бы чуть-чуть притушенному,
но, как душа и совесть, в нас присутствующему.
РЕПИН: «ОТКАЗ ОТ ИСПОВЕДИ ПЕРЕД КАЗНЬЮ»
РЕПИН: «ОТКАЗ ОТ ИСПОВЕДИ ПЕРЕД КАЗНЬЮ»
Но в атеистах — столько истовости
и столько веры негасимой,
что отказавшийся от исповеди
весь светится духовной силой.
Сидит, не выспавшийся, ежащийся,
худой, всклокоченный, иззябший,
но — волей репинской, художнической —
во тьме тюремной воссиявший.
А поп, громадина отъевшаяся,
неодухотворенной тушей
стоит. И крест блестит, отсвечивая:
свет отражая непотухший
того, другого.
Пламя выкинулось,
так озарив тюремный сумрак,
что уж не живопись, а иконопись
нужна. И страсть, а не рассудок.
А если живопись — по-рембрандтовски:
самосветящиеся лица.
Свет революционной ревностности:
страсть светится так, что святится.
В темнице в царской, как в сокровищнице,
светлей каменьев самоцветных
сияет, умереть готовящийся,
но всем живым светящий смертник.
Весь обращенный к царству будущего,
он гибнет, но воскреснет в душах
как отрицанье мрака, тушащего
свет — свет, который не потушишь.
Похож он на того, евангельского,
на крест пошедшего пророка
и на Крестителя ивановского
похож, не верующий в бога.
Но что-то есть в нем и от Мусоргского,
от Писарева и Крамского,
и от подвижничества русского,
и от учителей раскола.
Семинаристская, студенческая,
против царя, против насилья,
почти как та, самосожженческая
раскольническая Россия,
рванулась, удила закусывая,
вперед: на подвиг и на гибель…
И одержимость — аввакумовская…
Как верил он!.. Как ненавидел!..
ПОСЛЕДНИЕ КАРТИНЫ ГЕ
ПОСЛЕДНИЕ КАРТИНЫ ГЕ
Как жить? Что есть истина? Что
есть в истине? Может, смешно —
на крест за нее и в тюрьму?
Нужна ли она? И кому?
Пилат. На свету. А в тени —
его арестант у стены,
истерзанный, грязный, босой,
со связанными за спиной
руками, одни лишь глаза
горят на лице, волоса
всклокочены, в нищем тряпье
он жалок. Но главное не
в величии, учит нас Ге,
не в том, чтоб стоять на свету,
а чтоб отстоять правоту,
пусть жизнью, пусть гибелью, но
отринуть всесильное зло.
Судилище. Судит толпа.
Казнить. Но потом. А пока
плюют в него, бьют по лицу
и, прежде чем дать палачу,
помучают сами. К стене
прижатый, он сжался. А те
поют и ликуют, полны
победного пыла толпы.
И все-таки, учит нас Ге,
сей уничиженный, на дне
униженности, все равно
всех выше плевавших в него.
«Распятья» (рисунки, холсты).
Кресты и тела и кресты,
тела и кресты и тела…
Но так, чтоб мозги сотрясла
картина. Чтоб било в глаза
страданье. Чтоб было нельзя
уйти от него. Никуда.
Чтоб ужас объял. Нагота
терзаемых. Страсти по Ге.
Не спрячешься, зритель, нигде.
…Тела и кресты и тела…
Так некуда скрыться от Льва
Толстого, с его «Не могу
молчать». Не уйти. Никому.
Закроешь глаза, но внутри —
Голгофа. Распятые. Три
предсмертных конвульсии. Рты —
как раны. В терновом венце —
пророк на кресте. На лице —
одна только мука, одно
страдание, самое дно.
Он в смертном поту и в крови,
копьем под ребро уколи —
уже он не вздрогнет, глаза —
потухли. Но он — не слуга
убийц. Уничтожен, но не
подвластен им, учит нас Ге.
Предсмертная живопись Ге.
Так молния, вспыхнув во тьме,
в ночном беспросветном лесу,
вдруг лес и Вселенную всю
и душу твою, все нутро
светло, нестерпимо светло
на миг освещает, слепя.
Так осуществляют себя.
НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ (Блок и Белый)
НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ (Блок и Белый)
Два странных юноши — в Москве и в Петербурге —
беседу письмами ведут между собой.
А буря близится. И оба перед бурей
электризованы, как мир предгрозовой.
Золото-розовые радостные зори…
Багровый блеск зарниц, сверкающих вдали…
И греза грезится: они — на лодке, в море,
плывут, плывут туда, где зори расцвели.
А все, что позади,— все рухнет и утонет.
А горизонт в огне — пожар? восход? закат?
А лик Грядущего увиден, но не понят:
всесветная война или всесветлый Град?
А буря близится, уже бушуют волны,
и что-то смутное вздымается из вод…
Два странных юноши навстречу бурь и молний
плывут, бесстрашные, с девизом: да грядет!
Ударил колокол. Да будет век двадцатый!
Все будет новое: и небо, и земля.
Что было, то прошло. За наступившей датой
таится век иной, пугая и суля.
Кругом глухая ночь, но в них уже тревога,
предощущение, предзнание: вот-вот
все переменится. И правда: два-три года —
и Порт-Артур падет, и грянет Пятый год.
Он начинается, век войн и революций,
все будут втянуты в водоворот времен…
Рев пушек вновь и вновь, и реки крови льются,
и трупы склеваны несытым вороньем.
И все-таки — туда! В огонь, в метель и вьюгу!
В бездомность, в улицу, в поля, в простор, в полет!..
Двух странных юношей, что письма шлют друг другу,
зовет нежданное и требует: вперед!
Два провозвестника, пророка, прозорливца,
два предрекающих, что близится гроза,
две птицы вещие… Поэзия — орлица,
по слову Пушкина. Да! И еще раз — да!
“Стоит на горке церковь-недотрога…”
* * *
Я ухо приложил к земле.
Блок
Стоит на горке церковь-недотрога.
Телеги проскрипели стороной.
И всхлипывает жалобно дорога,
дрожа исполосованной спиной.
Обшарпанные, мокрые леса.
Поля кругом, как рекруты, обриты.
И редкие, корявые ракиты —
заплаканны их серые глаза.
А над землей — безрадостная пасмурь.
И, медленно трезвея на дожде,
спускается с горушки пьяный пастырь,
копая ногтем в грязной бороде.
И — тишина.
И тщетно ухом жадным
каких-нибудь землетрясений ждать:
бездольным, бескоровным, безлошадным
безропотность безгласная — под стать!
ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ
ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ
Кабы знал наш государь —
только он не ведает! —
он бы горько зарыдал:
что над нами делают!
Мы уж скажем перед ним
правду истинную!
Мы бумагу подадим ему
письменную!
Со своим житьем-бытьем,
с челобитьем,
все пойдем,
к нему пойдем —
чего выйдет!
Поклонились бы мы,
в ноги повалились бы:
ты по милости суди,
по справедливости!..
Но царю — не ко двору
беды-обиды…
Мы не пьяны во пиру —
насмерть убиты.
“Округлы и оголены…”
* * *
Округлы и оголены
и фиолетово-лилово
огнем пылают валуны
«Весны в Финляндии» Рылова.
Как будто не земных пород
закаменелое упорство,
а Пятый год:
восставший флот
вдруг вспыхнувшего Гельсингфорса.
ИЗ РАССКАЗОВ ОТЦА
ИЗ РАССКАЗОВ ОТЦА
Мне было девять или десять, но
помню, как было траурно-темно
во всем Кронштадте: в ожиданье казни
матросов. Хоть не весь Кронштадт был
красный,
но это было всем не все равно.
Какой же это? Девятьсот седьмой?
Или шестой? Выходит, и со мной
все это было: та эпоха, время
мертвого штиля — схлынувшего гребня,
как будто срезанного тишиной…
УРОКИ ЧИСТЯКОВА
УРОКИ ЧИСТЯКОВА
В отцовском юношеском дневнике
есть много записей о Чистякове.
Старик уже хворал и умер вскоре,
но память о чудесном старике
отец хранил всю жизнь. Да и дневник
берег, я думаю, того лишь ради,
что в черной, чуть потрепанной тетради
с ним продолжал беседовать старик.
Вот записи. Июнь, июль и август
тринадцатого года. Боже мой!
Какая фантастическая давность!
Отцу — шестнадцать. Чистяков — живой.
И гибель Врубеля и смерть Серова
еще свежи. Над телом Льва Толстого
еще жужжит мух-журналистов рой.
Мир — накануне первой мировой.
Отец рисует в школе поощренья,
но Чистякова жаждет слышать мненье,
как рисовать, как жить, кем быть. И тот,
ученикам уж потерявший счет,
мальчишке дарит мысли, не скупится,
и с синими линейками страница
словами чистяковскими цветет.
Дневник мы прочитали после смерти
отца. А помню, я входил, как в церкви,
в музеи — в Русский или в Эрмитаж —
с отцом, бродил по царскосельским паркам
(а Чистяков ведь жил когда-то в Царском!)…
Отец, держащий кисть иль карандаш,
порой проронит фразу. По крупице
заряд годами продолжал копиться.
Заветы. Заповеди. Мудрость. Весть.
Евангелие живописца.
Здесь
я попытаюсь мысли мудреца
(не буду отрицать, что метод — спорный)
реконструировать со слов отца,
а кое-что по той тетради черной.
В них веет дух высокий и просторный,
как в проповеди некогда нагорной.
И ничего для красного словца.
Вот что могу я вспомнить и прочесть.
Есть Леонардо, Александр Иванов
и несколько таких же великанов:
творцы и вседержители. А есть
тьмы-тьмущие дельцов и шарлатанов,
любимцев публики. Глаз не отвесть
(какой-нибудь, к примеру, Семирадский) —
блеск и эффект! а свет какой! а краски!
Картина, как красотка, дарит ласки
любому встречному!.. Аукцион!..
Кто больше, господа?.. Всё на продажу!
Всё напоказ!.. Но как же ты покажешь
виденье, непостижное уму?..
Ты должен с юности решить, кому
ты служишь: бирже или Эрмитажу?..
Художник — химик. Шагу не ступи
без химии: без масел, красок, лаков.
Без техники немыслимы стихи
и музыка… Художник—как Иаков,
с Искусством борющийся, а оно —
как Бог: сурово, гневно и темно…
И все-таки оно же дарит свет…
Сюжет? Конечно, важен и сюжет.
Но далеко ли на одном сюжете
уедешь?.. Мысль, идея — только сети,
в которые улавливают суть.
Но суть умеет ловко ускользнуть
и вообще не каждому дается.
Суть не рассказывается — поется,
так Чистяков учил…
Так он сказал…
Так он твердил… Так повторял… Так верил…
Таким художников аршином мерил…
Так угадал… Предугадал… Так знал…
Я слышал все это и с давних лет
ловлю себя на мысли (ну и бред!),
как будто Чистяков учил Сезанна
и Водкина. Отец мой — сезаннист
и водкинец. Но, как ни назовись,
он — чистяковец: в том, как неустанно
он строил мир; как он одолевал
грозящий миру хаос; создавал
алмазы из угля и чернозема;
как прозревал незримый идеал
сквозь матерьяльность формы и объема.
Устав от суеты и пустяков,
он в Эрмитаж уйдет и скажет маме:
— Пойду поговорить со стариками! —
Я знал: один из этих «стариков» —
профессор живописи Чистяков.
О, скольких, скольких на своем веку
он научил! О, скольким старику
отец обязан! Да и я отчасти…
Задумчивей становишься, зрелей —
уроки умерших учителей
все ярче вспоминаются, все чаще.
ВРУБЕЛЬ: ДЕМОН ПОВЕРЖЕННЫЙ
ВРУБЕЛЬ: ДЕМОН ПОВЕРЖЕННЫЙ
Кристаллы. Раковины. Водоросли.
Сине-зеленый царь морской…
И, с крыльями павлиньей бронзовости,
но с мукою с глазах людской,
с плечом, будто на дыбе вывернутым,
но в царский завернувшись плащ,
пловцом, себе на гибель вынырнувшим
из бездн Вселенной, чтобы пасть
на брег Земли — и все же царственное,
хоть гибнущее существо,
в ущелье среди скал распластанное,
закатными освещено
лучами. Все в нем не по-здешнему
Чужак. Но обжигает нас
свет - внутренний навстречу внешнему -
из гаснущих горящих глаз.
КРАСНЫЙ КОНЬ
КРАСНЫЙ КОНЬ
Он светит до сих пор. Он не померк.
Такой же яркий. Он ярчает даже,
тот красный конь, явившийся поверх
эстетства, эпигонства, эпатажа,
поверх дискуссий, споров, болтовни —
поверх всего. Как знаменье. Как знамя.
Конь и художник ведали одни
всю глубину открывшегося знанья.
Конь медленно ступает по воде…
Но слышатся те строки роковые:
«Куда ты скачешь, гордый конь, и где
опустишь ты копыта?..»
Конь —
Россия.
Конь — киноварно-алый. Конь — огонь.
Как будто фреска из-под штукатурки.
Как самоцветный камень дорогой,
на волю вырвавшийся из шкатулки.
Как образ новгородского письма,
открывшийся из-под олифы темной…
Россия вдруг увидела сама
себя. И за спиною — путь огромный.
И впереди — конца и краю нет
пути… И яркие сияют краски…
Не апокалиптический конь блед,
а добрый конь, спасающий от бед
героя-юношу в народной сказке,—
быть может, он и был та красота,
что мир спасет, как думал Достоевский?..
Огромный конский глаз глядел с холста
с какой-то мудростью наивно-детской…
И эта красота была добром
и тем огнем, что Прометей похитил.
И некий предвещала перелом.
Но это понимал уже потом
ошеломленный, озаренный зритель.
БУКВЫ
БУКВЫ
Алые инициалы
«М» и «Н» — как два цветка:
радовалась, ликовала
рисовавшая рука,
киноварью выводила —
так и светятся, свежи,
будто крупные на диво
маки алые во ржи,
будто алая рябина —
радость пасмурного дня
грозди ягод уронила,
и сияют, аж звеня.
Два угрюмых твердых знака
(«Нестеровъ» и «Михаилъ»)
вышли — черные — из мрака
позаброшенных могил,
два могильных, черных-черных,
будто мать сыра земля,
всей печалью омраченных,
что веками здесь жила.
Буквам волю дал художник,
вывел на простор холста:
видно, знал, что в буквах божьих
та же скрыта красота,
что в цветах, деревьях, травах,
в избах и в излуках рек
и в церквушках, старых, мшавых,
что стоят который век,
та же, что и в лицах светлых
(здесь лишь двое: стар и мал)…
Так в старинных книгах ветхих
пламенел инициал.
Как пылающий терновник,
освещающий строку
вечным светом. Как червонность
стягов «Слова о полку».
Но явился живописец,
первый русский символист,
буквам приказал: «Светитесь!
Осветите холст, как лист!»
Обращен к былым столетьям,
заглядевшись в старый скит,
знал ли он, что буквам этим
жизнь иная предстоит?
Приближался век двадцатый,
«Красный конь» и красный флаг,
пушек слышались раскаты,
революционный шаг.
И вот-вот предстанет взору,
как Чехонин-эмальер
красной краской по фарфору
пишет: «Р.С.Ф.С.Р.»
НА МАРСОВОМ ПОЛЕ
НА МАРСОВОМ ПОЛЕ
В стужу и в снег, и в дождь, и в жары июльские
рядом с дворцами зияет пустой квадрат:
Марсово поле, площадь Жертв Революции —
в марте семнадцатого их провожал Петроград.
В марте семнадцатого город их хоронил,
восьмисоттысячной за полночь длился толпою.
Блок приходил постоять у этих могил
с празднично-траурной, скорбною, светлою болью.
В марте семнадцатого, земле предавая прах
этих убитых (и вспоминая — казненных!),
пели: «Вы жертвою…»
«Смертию смерть поправ!» —
было написано бронзою на знаменах.
Те, что последними царскими пулями сражены,
те, что погибли, но свергли проклятое рабство…
В КРАСНЫЕ СТРАШНЫЕ ДНИ
СЛАВНО ВЫ ЖИЛИ
И УМИРАЛИ ПРЕКРАСНО
Камни и тексты. Зодчество и речитация.
Оба согласно реквиемы звучат.
Зрелая точность лучших речей Луначарского
и 33-летнего зодчего звездный час.
Синтез искусств: архитекторского и ораторского.
Наша античность — в каждой гранитной плите
этого скромного памятника петроградского,
не превзойденного в строгой его простоте.
Тексты: ни рифм, ни размера, ни пунктуации,
без суетливой мелкости запятых.
Как пролетарий, против царя взбунтовавшийся,
полон достоинства этот свободный стих.
Прочные строфы в каменотесном слоге,
так чтобы можно было врубить в гранит,
в слоге, которого древние правила строги:
каждое слово лишь самую суть говорит.
Памятник: ни колоннады, ни обелиска —
глыбы гранита с набережных Невы,
город склонился над павшими низко-низко,
голые камни над ними нагромождены.
Краеугольные камни времени нового,
как бы начало — а строить будут потом,
как бы фундамент чего-то, что лишь основано
Петросоветом, как Петербург — Петром.
Здесь, в Петербурге, строившемся веками,
здесь, в Петрограде, что встал и порвал со старым,
молча стоим и читаем:
ЭТОТ КАМЕНЬ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
ПОСТАВЛЕН
СВОБОДНЫЕ СТИХИ
СВОБОДНЫЕ СТИХИ
Дискуссии о
свободном стихе
скучны и сво-
дятся к чепухе
или же схо-
дят на пустяки.
А вот
свобод-
ные стихи —
Тысяча девятьсот
восемнадцатый год.
РСФСР. Москва.
Мемориаль-
ная доска
(цемент):
«Наступит зо-
лотой век
люди будут жить
без законов
без наказаний
совершая добро
вольно то что
хорошо и
справедливо»
овидий